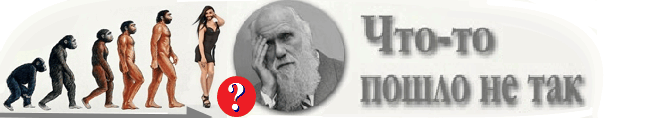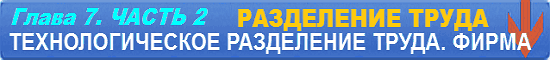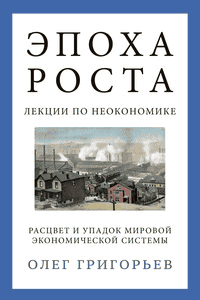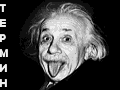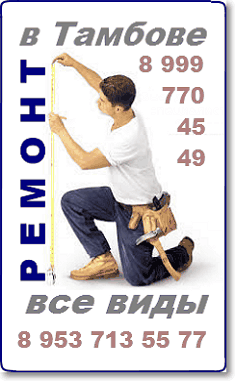определение понятие значение информация система структура принцип |

09.10.2016 Источник: Глава 8. Научно-технический прогресс опубликована редакцией сайта WorldCrisis.ru. Темы: нтп, экономический рост, неокономика, новая экономическая теория, теория экономической истории Существует общее мнение, что экономический рост - это во многом следствие научно-технического прогресса. В данной главе разбираются тонкие механизмы НТП, и показывается, что в общем, все наоборот - научно-технический прогресс является следствием экономического роста (хотя и создает при определенных условиях положительную обратную связь). Так же рассматривается опыт СССР по организации НТП, во многом отличный от классической модели. |
|
|
Лекция 8
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Понятие научно-технического прогресса настолько широкое, что рассмотреть его со всех сторон в рамках одной лекции просто невозможно. Поэтому я ограничусь лишь несколькими очерками, которые скорее лишь обозначат некоторые важные, на мой взгляд, проблемы.
В неоклассике к научно-техническому прогрессу относят только те технологии, которые повышают производительность труда без роста капиталоемкости.
При этом подавляющая часть реальных инноваций оказывается за бортом неоклассического определения научно-технического прогресса.
Основная проблема лежит на поверхности. Я утверждаю, что основным двигателем экономического роста является разделение труда. Всеобщая же точка зрения заключается в том, что двигателем является научно-технический прогресс, инновации.
Вот тут можно было бы поспорить, сопоставить две позиции и предоставить всем желающим возможность сделать вывод, кто прав. Но я просто не знаю, с чем спорить. Я не понимаю, что такое научно-технический прогресс.
Многие думают, что они понимают. Но если начать спрашивать подробно, выяснится, что понимают очень по-разному. Точек зрения будет очень много, большинство из них страдает расплывчатостью. Это какие-то наборы фактов, картинок, отрывочных суждений. Споришь с одним, по ходу дела выясняется, что оппонент имел в виду совсем другое, потом третье. И все это подкреплено какими-то примерами, вроде бы и имеющими отношение к делу, хотя если начнешь разбираться...
Давайте посмотрим, как это выглядит в экономической теории. Еще раз вернемся к теории окольных способов производства Бем-Ба- верка. Я понимаю, что, наверное, вам уже это надоело, но ничего не могу поделать. Все, что по этому поводу говорит ортодоксальная экономическая наука, — это вариации на тему Бем-Баверка.
Вспомним пример, который мы уже рассматривали. Вот Робинзон. У него есть выбор: ловить рыбу голыми руками или потерпеть некоторое время, сделать себе удочку и начать ловить больше рыбы.
Но подождите. Ведь удочку еще надо изобрести. Это научно-технический прогресс или нет? Я уже не говорю о траулере, который ловит рыбу сетями и наводится на косяки с помощью спутника. Это еще более окольный способ производства — он что, не имеет никакого отношения к научно-техническому прогрессу?
Я почему задаю эти вопросы? Потому что согласно современным трактовкам это никакой не научно-технический прогресс. Попробую это пояснить. Есть неоклассическая модель экономического роста, которую еще называют моделью Солоу или моделью Солоу — Свана. В основе ее лежит функция Кобба — Дугласа, в которой предполагается, что существует взаимосвязь между выпуском, количеством используемого труда и капитала. Одно и то же количество продукции может быть произведено при разных пропорциях труда и капитала. Как я уже говорил, это та же самая производственная функция Бем-Баверка с ростом производительности вследствие удлинения времени производства (рис. 22). Только вместо времени производства стоит капитал. У этой модели роста есть одно неприятное свойство. Если мы зададим некоторую «оптимальную» норму накопления (она определяется при ряде дополнительных экзогенных допущений), то никакого роста у нас не будет. Вернее, рост будет, если у нас увеличивается население и численность работников. Но производительность труда будет постоянной. То есть доход на одного работника расти не будет. Рост производительности мы будем наблюдать, только если предположим, что мы начинаем с некоторого неоптимального (более низкого) уровня накопления и постепенно повышаем его до оптимального. При этом темпы роста производительности у нас будут все время снижаться, пока не станут нулевыми. Так вот, все эти свойства неоклассической модели роста не соответствуют реальным данным, идет ли речь о динамике развития отдельной страны либо о межстрановых исследованиях. Темпы роста производительности изменяются по-разному, но не так, как предсказывает модель. Иногда они замедляются, потом ускоряются, и все это не совпадает с динамикой капитала. |
В общем, реальные данные всегда демонстрируют отклонение от модельных расчетов, обычно в сторону повышения. И это положительное отклонение принято относить на счет влияния научно-технического прогресса. То, что описывается функцией Кобба — Дугласа, то есть основной процесс производства, никакого отношения к научно-техническому прогрессу не имеет. А научно-технический прогресс — это фактор, который формируется вне экономической системы, за ее пределами.
Это представление в общем-то совпадает с точкой зрения многих людей, не являющихся специалистами в экономике. Для них научно-технический прогресс — это изобретения. Откуда они берутся, как они получаются — не очень важно84. Есть какие-то там изобретатели, вот и изобретают. Куча же историй существует про то, как кто- то что-то изобрел, и мы теперь этим пользуемся.
Вот это изгнание понятия научно-технического прогресса (НТП) из функции Кобба — Дугласа меня, если честно, сильно удивляет. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее. Предположим, что у нас есть один работник. Чем большим количеством капитала он будет управлять, тем больше продукции будет производить (хотя по мере роста количества капитала на каждую дополнительную его единицу будет приходиться меньший прирост выпуска).
Вот уже тут возникает вопрос. Что значит, что один работник управляет большим количеством капитала? Я как-то встречал, уже не помню у кого, рассуждение насчет того, имеет ли смысл ситуация, когда работник управляет сотней станков. Выглядит бессмысленно, но тот, кто так рассуждал, с формальной точки зрения был прав.
Тут ведь как? Реалистично предположить, что рабочий все время управляется с одним станком. Просто в одном случае станок дешевый и малопроизводительный, а в другом — дорогой и, соответственно, более производительный. Это предположение вполне укладывается в идеологию функции Кобба — Дугласа. И даже можно согласиться с тем, что по мере роста производительности станка каждое следующее приращение будет обходиться дороже.
Но если мы так будем думать, то НТП у нас окажется внутри производственной функции. И мы этой функцией не можем пользоваться так, как это принято в неоклассике. Вся система рассуждений будет выглядеть по-другому. С идеей экзогенного НТП, который непонятно откуда берется и за который экономисты не отвечают, придется расстаться. Не буду сейчас рассуждать, как именно должна выглядеть неоклассическая модель экономического развития — я не нанимался делать за неоклассиков их работу.
А поскольку неоклассики ее не хотят делать, то им и приходится рассуждать про работника, управляющего сотней станков, или, если хотите, Робинзона, управляющего сотней удочек. Хотя, как я уже говорил, даже удочку надо было в свое время изобрести, не говоря о станке.
Я понимаю, какую мысль до нас хотят донести неоклассики, определяя НТП так, как они это делают. Есть технологии, которые одновременно повышают производительность труда и увеличивают время производства (капиталоемкость). А есть технологии, которые повышают производительность труда, не увеличивая время производства.
Если бы у нас были только технологии первого типа, то рост экономики в какой-то момент стал бы невозможен. Экономика вернулась бы к состоянию «мрачной науки», каковой она была во времена Мальтуса и Рикардо. Те, правда, видели пределы роста в снижении производительности земли по мере расширения масштабов ее эксплуатации. В какой-то момент показалось, что развитие промышленности позволит преодолеть пределы роста. Но получилось, что пределы роста существуют и здесь.
А вот технологии, которые повышают производительность без увеличения капиталоемкости, дают возможность экономике расти безгранично. Очень полезное свойство.
Но зачем надо было одни технологии называть научно-техническим прогрессом, а другим отказывать в этом праве — мне непонятно. И как классифицировать эти другие технологии?
В общем, практически на пустом месте возникла путаница. Впрочем, это с моей точки зрения на пустом месте. У неоклассиков для этого были весомые основания — очень не хотелось отказываться от простой и красивой модели, которая, с их точки зрения, решала множество проблем (и не только связанных с НТП).
Эффект инновации определяется не только ее техническими параметрами, но и характером производственной системы (системы разделения труда), в которой она будет применяться.
В общем, никаких полезных ориентиров от неоклассики мы не получили, поэтому будем искать их сами.
Давайте рассмотрим несколько примеров, опираясь на рассуждения, которые мы сделали в предыдущей лекции про природу фирмы.
Рассмотрим производственный процесс, в котором используется станок (или какое-то другое ценное оборудование). Пусть операция, связанная с использованием станка, занимает, скажем, 1/8 часть всего производственного процесса, который в целом занимает 8 часов.
Предположим, что изобретен более совершенный станок, в три раза более производительный, чем тот, который используется сейчас. Но и стоит он в два раза дороже.
Будет ли заинтересован ремесленник в том, чтобы приобрести этот более производительный станок? Не задав всех начальных условий, ответить на этот вопрос мы не можем, но давайте прикинем.
Если станок в три раза более производителен, то одна из операций, длительностью в час, будет выполняться теперь за 20 минут. Тогда общая длительность производственного цикла теперь будет составлять 7 часов 20 минут. То есть за один и тот же календарный период ремесленник будет производить на 8 с небольшим процентов больше продукции при тех же затратах рабочего времени. То есть срок окупаемости при прочих равных условиях составит около 12 лет.
Это, конечно, при условии, что ремесленник выбирает, чем ему заменить пришедший в негодность старый станок: таким же станком или усовершенствованным. Если он будет заменять еще работоспособный станок, то реальный срок окупаемости будет выше.
Принятие решений зависит от множества внешних факторов, в частности от величины процента. Если на рынке есть или предвидится волна спроса, то покупка нового станка может оказаться целесообразной. Если равновесие или спад — то нет. И хорошо бы при этом еще понимать, как поступят другие ремесленники — будут они покупать новый станок или нет. Потому что это повлияет на общий объем производства в отрасли и на уровень цен. В общем, ситуация неоднозначная.
А теперь — то же самое, только относительно фирмы, где станок используется постоянно в течение всего рабочего времени, да еще и в три смены, и владелец которой задумывается над дальнейшим расширением производства. Тут никакой неоднозначности нет. По сути дела, он имеет возможность купить три станка по цене двух. Я не говорю тут о такой мелочи, как возможность отказаться от услуг двух станочников в смену (и от выплаты им заработной платы). Сделка однозначно выгодная, если, конечно, рынок сумеет поглотить резко возросшее количество производимой продукции (но мы исходим из того, что может).
Сделка будет выгодной, даже если утроенная производительность станка будет обеспечена и его утроенной ценой. Станки-то все равно покупать, а три по цене трех или один по цене трех — не важно: не забудем про высвобожденных станочников и экономию заработной платы. То есть, как мы видим, эффективность станка (и любой инновации) определяется не только его техническими характеристиками, но и характером производственной системы (системы разделения труда), в которой он будет применяться.
Вот теперь, когда мы имеем перед глазами конкретный пример, я попробую сформулировать суждение о закономерностях научно-технического прогресса. Оно далеко не исчерпывающее, но я и не обещал полностью закрыть тему.
Конечно, люди всегда что-то придумывают и изобретают, и будут делать это всегда. Но, во-первых, практическая применимость изобретений очень часто зависит от того, как организовано разделение труда. При ремесленном производстве наш гипотетический инновационный высокопроизводительный станок мог бы и не найти себе покупателя. Или покупался бы крайне вяло — по мере того, как выбывало из строя старое оборудование. А владелец фирмы, в которой определенным образом организовано разделение труда, оторвет такой станок с руками, и даже будет готов переплачивать.
Изобретатель может обращать внимание на такие вещи, может не обращать. Он решает технические задачи, и будет считать успехом, если ему удалось повысить производительность оборудования. Если же при этом удается снизить удельную стоимость оборудования на единицу мощности — вообще прекрасно. Особенно если он знает, что его коллеги тоже ломают головы над этой задачей, но у них ничего не получается.
Однако в реальной жизни он столкнется с тем, что эффективность изобретения определяется состоянием экономической среды, для характеристики которой важны два параметра: это наличие волны спроса и то, как под ее влиянием трансформируется уровень разделения труда.
При этом экономическая среда, если она меняется, начинает формулировать запросы к изобретателям 85. Я предположил изначально, что более производительный станок уже изобретен. Давайте теперь представим себе, что это не так. Изобретатели есть, но они занимаются совсем другими вещами.
И вот в какой-то отрасли вдруг происходит переход от ремесленного производства к производству фабричному. И в центре этого перехода стоит вопрос о максимальной загрузке станков. В глазах владельцев фирм, да и в глазах постороннего наблюдателя станок предстает основным (и даже единственным) источником доходов и прибыли.
Станок характеризуется производительностью (мощностью) — следовательно, повышение мощности станка начинает рассматриваться как источник повышения доходов и прибыли. Этого достаточно, чтобы хотя бы некоторые из изобретателей заинтересовались этой отраслью и начали работать над тем, как повысить мощность станка. Здесь и перспективы внедрения вполне прозрачны, и вознаграждение за свой труд можно получить.
Но этим запросы к изобретателям не исчерпываются.
Усложним чуть-чуть наш пример. Пусть в рамках исходного производственного процесса есть операция, требующая от исполнителя наличия физической силы. То есть не каждый может работать в этой отрасли, даже если у него есть знания, что и как производить, а только физически крепкий человек. Конечно, изобретатели могли предлагать какие-то технические приспособления, которые могли бы облегчить исполнение этой операции. Но не будет кустарь-одиночка покупать, скажем, паровую машину, чтобы она большую часть времени простаивала.
При создании фирмы эта операция выделится в самостоятельную. Ее исполнитель может не обладать знанием всего производственного процесса, но вот физической силой обладать должен, и применять ее постоянно, а не время от времени. Уже на этом этапе у владельца фирмы может появиться мысль о том, чтобы заменить силача каким-нибудь устройством. Силач — это редкий ресурс, ему и платить надо соответственно, и замену ему, если что, найти непросто.
А уж когда фирма расширяется, ей потребуется много работников, обладающих физической силой. И вот тогда вопрос о замене их всех каким-нибудь устройством станет весьма актуальным. Особенно если на рынке возникает дефицит работников, обладающих естественным (в данном случае — природным) преимуществом, их заработная плата растет и приходится перераспределять часть доходов владельца фирмы в их пользу. Так или иначе, запрос на паровую машину появится. Не на паровую машину как таковую — на решение проблемы. А уж как изобретатели с ней справятся и что предложат — не важно. Предложили, как мы знаем, именно паровую машину.
Я вовсе не собираюсь отрицать значение изобретательской деятельности как таковой и роли изобретений в экономическом развитии. Я просто призываю посмотреть на научно-технический прогресс комплексно: не только на одну его часть, но и на другую. А именно на то, что углубление разделения труда (технологическое разделение труда) расчищает дорогу инновациям и порождает потребность в них.
Вот сейчас в мейнстримовской литературе появилось такое выражение: «инновационная пауза». Некоторые экономисты пытаются показать, что именно она и является фундаментальной причиной современного экономического кризиса. Ну и, соответственно, выводы: во-первых, надо активизировать усилия в научно-технической сфере, а во-вторых, когда инновационная пауза закончится, то мировую экономику ждет очередной период бурного роста, так что не о чем и беспокоиться.
Я не знаю, что имеется в виду под этим интригующим выражением: «инновационная пауза» — про проблемы с определением НТП я уже говорил, а способность неоклассиков постоянно генерировать новые «идеи» и «понятия» такова, что со всем этим разбираться времени катастрофически не хватает. Их много, а я один.
Не думаю, что люди массово перестали стараться изобретать что-то новое. Если смотреть за научно-техническими новостями, то складывается совсем другое впечатление. А вот то, что динамика экономической среды стала другой, что уровень разделения труда перестал расти — для меня уже давно очевидно. И если уж говорить об инновационной паузе — то я скорее отнес бы ее на действие этого фактора. Заодно я бы обратил внимание на такую тенденцию, как массовый перенос производств в развивающиеся страны с гораздо более низкой стоимостью рабочей силы. Такая стратегия является конкурентной по отношению к научно-техническому прогрессу и внедрению его достижений.
Существует множество потенциальных направлений НТП.
То, которое реализовалось в действительности, в определенном смысле случайно.
Мы не знаем, самое ли оно эффективное из возможных и в каком смысле.
Мы сейчас посмотрели на научно-технический прогресс скорее с микроэкономической точки зрения. Давайте теперь посмотрим более широко.
Для начала я расскажу вам сказку. Это именно сказка, к ней именно так и надо относиться, однако в ней есть очень полезный намек. Жил-был один ремесленник. Днем он производил товары, да продавал их на рынке. А по вечерам он, вместо того чтобы расслабляться и отдыхать, думал. И вот в какой-то момент придумал какое-то устройство, используя которое можно производить за то же время гораздо больше продукции. Наверное, это было изобретение из разряда тех, которые ортодоксальная экономическая теория относит к научно-техническому прогрессу. То есть и производительность выше, и цена не очень высокая, так что выгода очевидна. Наш ремесленник мог бы, наверное, использовать это устройство (пусть будет устройство А) в своем производстве и потихоньку богатеть. Но это был очень умный ремесленник. Он прикинул, сколько ремесленников работает в его отрасли, и решил, что гораздо выгоднее будет запатентовать [86] свое изобретение, самому производить устройство А и продавать его другим ремесленникам [87]. В общем, начал он новое производство, товар пошел, так что спустя некоторое время он организовал фабрику по производству устройств А, договорился с торговцами, и те стали этим изделием широко торговать. Увидели устройство А ремесленники из другой, может быть, смежной отрасли, прикинули — получается, что и у них производительность повысится, если его применять. Наш изобретатель-то об этом не знал. Он все понимал в своей отрасли, а про другие ему невдомек было думать. Да вот только проблема. Выигрыш в производительности есть, но цена великовата (там ведь условия похожие, но все-таки не такие). Но это не беда — у изобретателя уже фабрика, себестоимость там меньше. Цену можно снизить, а фабрику расширить. Там уже и другие изобретатели появились, которые думают, как производство устройств увеличить и удешевить. Тут другой толковый человек из совсем другой отрасли сообразил: если устройство А немного модифицировать, что-то привинтить или как-то еще переделать, то оно и в этой новой отрасли может применяться. В общем, придумывает устройство А1. Тут что главное — что устройство есть на рынке, его можно увидеть и мысленно представить себе, как оно могло бы работать в некотором производственном процессе. Само собой разумеется, этот новый изобретатель вряд ли будет делать устройство А1 целиком с начала до конца. Если он будет его сам делать, то оно будет дорого обходиться, по крайней мере поначалу. Он либо пойдет на фабрику, производящую изделие А, с предложением наладить выпуск необходимой модификации, либо будет покупать устройство А и его доделывать. В любом случае у устройства А появляется новый рынок, его производство опять расширяется, оно становится еще дешевле. Ну а там пошло-поехало. Оказалось, что на базе устройства А1 можно создать устройство А11 еще для одной отрасли. А если соединить устройство А1 с не имеющим названия устройством, применяемым еще в одной отрасли, то и там можно получить эффект (и у нас получится изделие А12). Ну и так далее. Устройство А потихоньку обрастает дополнительными индексами, масштабы его использования, непосредственно или как основы для модификаций, растут, а затраты на его производство снижаются, что открывает для него новые ниши. Да и появление новых модификаций тоже расширяет возможности для дальнейших комбинаций. Кстати, изделие А уже может не производиться. Последовательность модификаций привела к тому, что появилось устройство А324, применяемое в какой-то отрасли и которое, как кто-то сообразил, при некоторой доработке в устройство А324-прим будет гораздо более эффективным в той самой, изначальной отрасли, где применялось устройство А. Но устройство А свою историческую роль уже сыграло. Оно легло в основу целого семейства устройств, обозначаемых А с набором индексов — я бы назвал это технологической платформой, если бы этот термин не применяли непонятно к чему. Но моя сказка вовсе не про устройство А. Она про устройство Б. Смотрите, какая ситуация. Вот есть некоторая отрасль со своим производственным процессом, со своими проблемами, узкими местами. Те, кто имеет дело с этой отраслью, ломают себе голову, как эти проблемы решить. Но ничего не получается — а в это время по рынку распространяются изделия серии А. Наконец, кто-то, бросив ломать себе голову, придумывает, как применить найденный в другой отрасли технологический прием к интересующему его производству. В общем, получается устройство А2147, и все начинают его применять. Это устройство серии А как-то повышает эффективность производственного процесса. Это повышение не очень большое, но и цены изделия серии А невелики, так что оно вполне себе окупается. Впрочем, трудности и узкие места в отрасли все равно остаются. Но, наконец-то, кому-то из тех, кто продолжает ломать себе голову над совершенствованием производственного процесса, приходит в голову замечательная идея, и он делает устройство Б, способное значительно повысить производительность и решить проблемы отрасли. Казалось бы, все прекрасно. Но это только на первый взгляд. Тут сразу же возникает множество проблем. Первая — это издержки. Как делать устройство Б? На коленке, в мастерской изобретателя. Оно будет очень дорогим, и это резко снижает эффективность его применения. При массовом производстве оно, конечно, может существенно подешеветь. Но массовое производство еще надо организовать, найти на его организацию кредиты, договориться с торговлей. И тут мы сталкиваемся со второй проблемой. Не будь пресловутого устройства А2147, которое немного повысило эффективность в отрасли, возможно, все это и удалось бы сделать — удалось же изобретателю продвинуть изделие А. Но поскольку конкурирующее устройство уже используется, то выгоды от устройства Б не так велики, даже если и удастся снизить затраты на его производство. К тому же работники уже умеют работать с устройством А2147, и им потребуется переучиваться. Ну и много еще препятствий, не буду их перечислять. При этом производители устройств серии А имеют возможность снизить цену на свое изделие. А кроме того, уже анонсировали выход на рынок новой модификации А2147-прим, которая позволит еще немного повысить производительность. В общем, устройство Б при всех его достоинствах выйти на рынок не может и остается в истории техники красивой, но тупиковой идеей, о которой все быстро забывают. |
Из этой сказки мы можем извлечь несколько полезных выводов, сейчас же давайте остановимся на самых очевидных
.Первый интересный и важный вывод: направление научно-технического прогресса, которое мы имеем на сегодняшний день, случайно: оно зависит от того, кто появился первым. На самом деле, нам трудно себе представить, что бы было, если бы устройство Б появилось раньше устройства А.
Оно вполне могло бы проделать похожий путь: широкое использование в исходной отрасли, потом в смежных, потом разного рода модификации для других отраслей. И когда было бы изобретено устройство А, оно оказалось бы никому не нужным. Но могло бы случиться и так, что устройство Б не имело потенциала развития и так и осталось бы узкоотраслевым феноменом. Мы про это ничего сказать не можем, потому что в реальности выбрали А и попали в колею, из которой очень трудно выбраться.
Второй вывод: существует бесконечно много закрытых и вообще никогда не реализовывавшихся направлений научно-технического прогресса. Были изобретатели, которые что-то сделали, были потенциально возможные изобретения, которые можно было бы придумать; все они оказались отброшенными. Быть может, реализуйся они в какой-то момент, и развитие человечества пошло бы совсем иначе. Не знаю, лучше или хуже, мы этого никогда не узнаем.
Я бы хотел тем не менее особо подчеркнуть этот вывод. Из него следует, что в принципе у нас есть гигантский резерв научно-технического развития. Мы этот резерв не видим, поскольку увязли в колее по самые верхушки окон. Но он есть, и имеет смысл думать о том, как его разглядеть.
Третий вывод заключается вот в чем. Начиная с какого-то момента эффективность изобретения задается не столько тем, каково оно по своей сути, а тем, может быть оно встроено в существующую систему разделения труда или нет. Те изобретения и инновации, которые используются сейчас, соответствуют сложившейся системе разделения труда. Они эффективны не вообще, абстрактно, а в рамках существующей системы разделения труда. Именно система разделения труда задает критерии эффективности. В другой системе, которая случайно не сложилась, эти технологии могли бы выглядеть нелепо.
Предметно-технологическое множество
Когда современный изобретатель что-то изобретает, он не обращает внимания на то, что делает это в определенной системе разделения труда, и тем более не обращают на это внимания те абстрактные мыслители, которые в своих рассуждениях делают упор на изобретениях как таковых.
Если современному изобретателю для его устройства нужен провод, он идет в соответствующий магазин и покупает его. Но почему он может это сделать? Да потому, что его кто-то когда-то изобрел. Но мало ли что люди в истории изобретали.
Он может купить провод, или какую-то другую деталь, или даже необходимый ему станок, потому что они продаются. То есть на них есть спрос, и выстроена система производства и продажи, которые этот спрос удовлетворяют. И спрос этот создают не изобретатели, а рядовые потребители, с изобретательством никак не связанные.
Когда изобретатель еще только замысливает что-то новое, он сразу же прикидывает: вот то и это я могу купить, это могу заказать, а вот такую деталь мне придется сделать самому. То есть, если можно так выразиться, архитектура изобретения во многом задается теми вещами, которые могут быть куплены, и теми технологиями, которые применяются — а применяются они потому, что сделанные с их помощью предметы пользуются спросом.
Еще раз повторю — об этом, как правило, не задумываются. Нужен провод — и его покупают. А что было бы, если бы он был нужен, а его нет. Это не значит, что его никто никогда не придумывал. Может быть, придумывал, но изобретение не нашло своего рынка, и о нем давным-давно забыли.
Скорее всего, сам замысел изобретения не возник бы или был бы совсем другим. А если все-таки и возник бы и был именно таким, то изобретателю пришлось бы заодно изобрести, как вытянуть проволоку, как заключить ее в безопасную оболочку, какие материалы взять и т. д. Но с учетом всех этих дополнительных задач эффективность исходной инновации может стать весьма сомнительной.
Мне очень нравится история про Чарльза Бэббиджа и его аналитическую вычислительную машину, которая, по сути, является прообразом современного компьютера.
Я в ходе предыдущих лекций уже упоминал Бэббиджа, но тогда говорил о нем как об экономисте, который первый дал подробный анализ организации разделения труда. Милль и Маркс (это те, кого я знаю) много и охотно цитировали Бэббиджа в своих трудах. Но в истории науки и техники Бэббидж гораздо более известен. Главным его изобретением была аналитическая машина, прообраз современного компьютера. Впрочем, при жизни Бэббиджа это изобретение так и не было воплощено «в железо», и мы увидим почему.
Немного предыстории. Мало кто знает, что идея компьютера и идея разделения труда в истории тесно связаны друг с другом. Начало XIX века — это эпоха быстрого развития науки и инженерного дела. И то и другое опиралось на расчеты. Для помощи в расчетах составлялись различного рода сборники и таблицы. Люди старшего поколения еще помнят — в школе нас учили пользоваться таблицами логарифмов. Но, конечно, речь шла и о таблицах значений самых различных функций — тех же тригонометрических и т. д. Спрос на таблицы постоянно рос, при этом требовались все более точные расчеты.
Бэббидж задумал повысить эффективность работы по составлению таблиц за счет разделения труда. Идея была не его, но он был большим ее энтузиастом. Предполагалось, что участники процесса будут разбиты на несколько категорий: одни задавать, как мы бы сейчас сказали, алгоритмы расчетов, а другие — выполнять элементарные счетные операции. А потом возникла идея: почему бы не заменить этих последних, чья работа не требовала высокой квалификации, была нудной и однообразной и которых требовалось очень много, машиной [88].
И Бэббидж решил такую машину создать. Он разработал ее проект, архитектуру (сегодня все компьютеры построены по этому исходному проекту), а вот дальше он столкнулся с гигантскими трудностями: машину не из чего было делать. Тот самый случай, когда проект предусматривает необходимость провода, но его негде взять, и надо создавать самому.
Для построения аналитической машины Бэббиджу пришлось изобрести несколько новых видов станков, которые используются до сих пор. Он разрабатывал новые инструменты, новые способы изготовления зубчатых колес (главный элемент машины) и многое другое. И все-таки создать машину так и не удалось. Первый и единственный работающий экземпляр был создан в 1906 году, уже после смерти Бэббиджа и спустя 72 года после того, как был разработан ее проект.
Конечно, Бэббиджу не хватало денег, он потратил как большую часть своего состояния, так и деньги правительственных субсидий (достаточно щедрых по тем временам). Но это и неудивительно, если мы учтем все вышесказанное о трудностях, с которыми он столкнулся.
Давайте обобщим.
Введем понятие предметно-технологического множества. Это множество состоит из предметов (изделий, деталей, видов сырья), которые актуально существуют, то есть кем-то производятся и, соответственно, продаются на рынке. Что касается деталей, то они могут не быть товарами, но входить в состав товаров. Вторую часть этого множества составляют технологии, то есть способы производства продаваемых на рынке товаров из и с помощью предметов, входящих в данное множество. То есть знания правильных последовательностей действий с материальными элементами множества.
В каждый период времени мы имеем разное по мощности предметно-технологическое множество (ПТМ). Кстати говоря, оно может не только расширяться. Какие-то предметы перестают производиться, какие-то технологии утрачиваются. Может быть, чертежи и описания остаются, но в реальности, если вдруг понадобится, восстановление элементов ПТМ может представлять собой сложный проект, по сути дела — новое изобретение. Говорят, что когда уже в наше время попытались воспроизвести паровой двигатель Ньюкомена, то пришлось затратить огромные усилия для того, чтобы заставить его хоть как-то работать. А ведь в XVIII веке сотни этих машин вполне успешно работали.
Но в общем и целом ПТМ пока скорее расширяется. Давайте выделим два крайних случая, как может происходить это расширение. Первый — это чистая инновация, то есть совершенно новый предмет, созданный по неизвестной ранее технологии из совершенно нового сырья. Не знаю, подозреваю, что в реальности этот случай никогда не встречался [89], но давайте предположим, что так может быть.
Второй крайний случай — это когда новые элементы множества формируются как комбинации уже существующих элементов ПТМ. Такие случаи как раз не редкость. Уже Шумпетер рассматривал инновации как новые комбинации того, что уже есть. Возьмем те же самые персональные компьютеры. В некотором смысле нельзя сказать, что они были «изобретены». Все их компоненты уже существовали, и просто были скомбинированы определенным образом.
Если и можно здесь говорить о каком-то открытии, то оно заключается в том, что исходная гипотеза: «эту штуку будут покупать» — полностью оправдалась. Хотя, если подумать, тогда это было совсем не очевидно, и величие открытия состоит именно в этом.
Как мы понимаем, большинство новых элементов ПТМ представляют собой смешанный случай: ближе к первому или второму. Так вот, историческая тенденция, как мне кажется, заключается в том, что доля изобретений, близких к первому типу, сокращается, а ко второму — увеличивается.
В общем, в свете моего рассказа про устройства серии А и устройство Б понятно, почему так происходит.
Классификация этапов научно-технического прогресса
Есть такой известный американский специалист по менеджменту — Питер Друкер. У него есть книга «Великий разрыв». В ней есть одно любопытное наблюдение об исторических тенденциях научно-технического прогресса. Первое издание книги появилось в конце 1960-х годов, русский перевод сделан с издания 1990 года, то есть не очень давнего.
По словам Друкера, весь XX век (по крайней мере, речь шла о почти семидесяти годах) мы живем на изобретениях, которые были сделаны в XIX веке, и с тех пор ничего принципиально нового не изобрели. Ну, возможно, не так жестко. Кое-что изобрели в начале XX века. Скажем, возможность передавать человеческую речь с помощью радиоволн была открыта в 1906 году — отсюда, наверное, надо отсчитывать историю мобильной телефонной связи. Про аналитическую машину Бэббиджа как прототип компьютера я уже говорил — она-то точно из XIX века.
Я во время своих выступлений задаю обычно слушателям вопрос: когда, по их мнению, была создана компания IBM (International Business Machine). Большинство отвечает, что где-то после Второй мировой войны. На самом деле компания с таким названием появилась в 1914 году, но сам бизнес — еще раньше (IBM его перехватила). Суть бизнеса заключалась в записи больших массивов данных на перфокарты (тогда они назывались табуляторами Холлерита) и их обработке. Речь идет о производстве устройств для этой деятельности.
Я еще успел немного поработать с перфокартами — очень неудобно, если по прямому назначению. А вот для ведения картотеки — самое оно. И как закладки удобно использовать.
Для IBM с появлением компьютеров принципиально мало что изменилось. Просто механические устройства для обработки перфокарт заменились электрическими. Ну а сама идея перфокарт восходит к музыкальным шкатулкам и прочим безделушкам, известным уже достаточно давно.
Кстати, уже в XIX веке существовали станки с, как бы мы сказали сейчас, числовым программным управлением — в ткацком деле. Художник разрабатывал рисунок, это все переносилось на перфокарты, и станок выдавал рисунок на ткани. Стоило все это, конечно, жутко дорого, поэтому применялось только в шелковой промышленности.
Но тем не менее. А то сейчас все носятся с SD-принтерами и думают, что это что-то принципиально новое. Хотя, возможно, для изобретателей тут открываются большие возможности.
Но я отвлекся. Итак, все изобретено в XIX веке, в крайнем случае в начале XX. Кое-что изобрели и в XX, но это капля в море. А дальше Друкер выстраивает очень любопытную классификацию периодов научно-технического прогресса, которая во многом совпадает с той, которая получается из анализа неокономики.
Сразу скажу, у него не очень удачная терминология, я по ходу дела буду ее поправлять.
Итак, первый период. Основные изобретения были сделаны до 1850 года. Друкер выделяет период от минус бесконечности до 1850 года — это первый период научно-технического прогресса. Он говорит, что это был научно-технический прогресс, основанный на опыте.
Второй период Друкер никак не называет, только описывает. Он говорит, что это переходный период. Его приблизительные границы — 1850—1900 годы.
Третий период: с 1900 года по настоящее время (по крайней мере, на период написания книги Друкера) — далее крайне неудачный термин — эпоха научно-технического прогресса, основанного на знаниях.
О чем это рассуждение с моей точки зрения.
Первый этап — это этап накопления фундаментальных знаний. Предметно-технологическое множество пополняется за счет изобретений, сделанных в связи с изучением законов природы. Это изучение производится с помощью экспериментов, опытным путем (отсюда и слово опыт применительно к этому этапу).
Третий этап — это когда ПТМ пополняется преимущественно за счет комбинаций элементов, уже входящих в него.
Друкер здесь употребляет термин «знание», это соответствует западной традиции, но не соответствует, как мне кажется, традиции российской и порождает недопонимание. Мы привыкли под знанием понимать скорее фундаментальные знания. То есть, если бы мы в русском языке давали названия этапам, мы бы, скорее всего, термин знания отнесли бы к первому этапу.
Что понимает под знанием в данном контексте Друкер? Он говорит о знании предметно-технологического множества, его состава, структуры. Я знаю, как устроено ПТМ, поэтому, сталкиваясь с какой-нибудь проблемой, я занимаюсь не анализом этой проблемы как таковой, а лезу в ПТМ и там ищу — подходит ли что-то для решения каким-то образом поставленной передо мной задачи. Это знания не о первой реальности — о природе, а знания - о второй, искусственной реальности — о том, что уже создано.
В начале XX века ПТМ уже достаточно большое и разнообразное, поэтому с высокой долей вероятности я что-то подходящее, скорее всего, найду. В российской традиции это даже не то, что называется прикладной наукой. Это какой-то другой, неизвестный нам вид деятельности, для которого у нас даже названия нет.
Мы должны это понять, потому что, когда мы слышим слово «знание», хотя бы словосочетание «экономика знаний», мы представляем себе одно, а на Западе имеют в виду совсем другое. Мы делаем одни выводы, а на самом деле они совсем другие.
С моей точки зрения большой интерес представляет собой второй этап, переходный период. Что тогда происходило с точки зрения неокономики?
А в этот период - ВТОРОЙ ЭТАП - происходило соединение фундаментальных результатов, накопленных в предшествующий период, со складывающейся системой разделения труда. Это период, когда разделение труда охватило не просто отдельные фабрики и не только отдельные отрасли — но стали формироваться основанные на разделении труда цепочки производств.
Вот на этом этапе уже происходил отбор: какая фундаментальная идея может быть реализована, а какая нет. Изобретение может быть очень хорошим для своей области, но на существующем оборудовании его сделать нельзя, или сложно, или слишком дорого90. Друкер приводит такой пример: в свое время практически одновременно появились электрические лампочки Эдисона и Суона (в Великобритании). Друкер утверждает, что по многим параметрам лампочка Суона была лучше, чем у Эдисона. Но победила в конкуренции лампочка Эдисона, поскольку ее проще было сделать в массовом количестве на уже существовавшем промышленном оборудовании.
Как я себе это представляю, ситуация была сложнее. Речь ведь шла не о том, что у нас уже есть электросеть и осталось только купить лампочку и ее ввернуть. Поначалу лампочка шла в комплекте со всей системой электрооборудования и, в общем, была чем-то вроде вишенки на торте. Но я не хочу сейчас в эту тему, в которой я не специалист, углубляться.
Тут важен сам принцип, подмеченный Друкером и который возвращает нас к уже рассказанной сказке про устройства А и Б.
Если и А, и Б появились, условно говоря, до 1850 года, то у них обоих был шанс попасть в предметно-технологическое множество. Если же А появилось до этого года, а Б — после, то шансы Б попасть в ПТМ были бы тем меньше, чем позже это устройство было изобретено. К 1900 году по классификации Друкера его шансы становились исчезающе малыми.
Конечно, есть особый случай атомной бомбы и атомной энергетики как побочного продукта создания атомной бомбы. Этот пример все любят приводить, но он как раз свидетельствует о правильности рассматриваемой нами схемы. Да, многие устройства типа Б попали в предметно-технологическое множество благодаря военным нуждам, а уж будучи там, стали основой для создания кластеров, подмножеств, некоторые из которых смогли найти свое место на рынке.
Этой проблеме, на мой взгляд, уделяется непропорционально много внимания. Я считаю, что гораздо важнее понимать, как устроено ПТМ и по каким принципам развивается.
Когда я говорю о том, что рост производительности мировой экономики в последние два с половиной столетия связан в основном с разделением труда, мне часто возражают. Возражения же в основном сводятся к тому, что я не принимаю во внимание изобретения. Как видите, я изобретения во внимание принимаю, и у меня даже есть по этому поводу вполне развернутое суждение.
Да, изобретения вроде нашего гипотетического устройства А или устройства Б, если оно каким-то образом попало в предметно-технологическое множество, имеют значение. Но с течением времени значение имеет само ПТМ и закономерности его формирования и развития. А эти закономерности связаны с разделением труда.
Я тут еще напомню те рассуждения, которые мы сделали по поводу более производительного станка, который может быть применен только в условиях фабричного производства, но не имеет смысла для отдельного ремесленника, а также вспомним о том, как углубление разделения труда формирует заказ на изобретения.
С учетом всего этого я продолжаю утверждать, что в основе роста производительности лежит именно углубление разделения труда.
И даже пример с атомной энергией меня не сильно убеждает. Я мог бы согласиться с тем, что изобретения типа Б, которые попадают в ПТМ вопреки логике разделения труда, создают дополнительный источник экономического роста. Но и тут надо быть осторожнее с выводами.
Да, возможно, прямо разделение труда к созданию атомной энергетики не имеет отношения. Но вот косвенно — несомненно. Ибо рост производительности вследствие углубления разделения труда сделал возможным выделение ресурсов, необходимых для создания атомной бомбы. Да и сама возможность производства атомной бомбы все равно была обусловлена наличием достаточно развитого ПТМ. Если бы все это не имело значения, мы бы сейчас жили в мире, где каждое государство имело бы атомную бомбу.
СССР: бедное предметно-технологическое множество и создание альтернативной модели НТП.
На самом деле у нас есть очень интересный пример попытки построить альтернативную модель научно-технического прогресса. Речь идет о СССР периода после Второй мировой войны.
Какая проблема встала перед нашей страной после 1945 года? Железный занавес. Несмотря на быстрое развитие в период индустриализации, предметно-технологическое множество советской экономики было гораздо беднее, чем ПТМ на Западе, особенно в США, которые перешли на новый уровень разделения труда. До войны это особого значения не имело — все необходимое, в том числе и для оборонных нужд, можно было покупать, копировать и т. д. В годы войны помогали поставки по ленд-лизу.
После войны ситуация изменилась. США серьезно продвинулись в развитии своего ПТМ. Военные нужды сильно этому способствовали — я об этом уже говорил. Появились новые виды вооружений и системы управления ими. Переход к мирному развитию сопровождался резким ростом рынков, углублением разделения труда и быстрым ростом разнообразия ПТМ. Но свободный доступ ко всему этому был перекрыт.
При этом угроза войны была реальна. И перед Советским Союзом встала такая задача: при гораздо более бедном предметно-технологическом множестве делать то же самое (не хуже по качеству и прочим характеристикам). Естественно, речь шла в первую очередь о вооружении. Ну да, научно-техническая разведка работала вовсю и свою лепту вносила. Но ее возможности все-таки ограниченны.
Решить поставленную задачу можно было только одним способом: пытаться создавать высокоэффективные устройства, ориентированные на решение содержательных проблем (типа Б из ранее рассказанной сказки). То есть строить научно-технический прогресс по модели первого этапа (по классификации Друкера), делать упор на фундаментальные исследования.
Честно говоря, не знаю, каковы были истинные мотивы, но кампанию против «низкопоклонства перед Западом», развернутую после войны, можно рассматривать как элемент вполне осознанной стратегии. Да, есть западная наука и техника, наверное, они хороши, но они опираются на развитое и разнообразное ПТМ, которое СССР обеспечить не в состоянии. Бессмысленно копировать достижения западных ученых и работать в том же русле, что и они. Надо думать своей головой в тех условиях, которые есть. Ну а в качестве образца для подражания приводились примеры выдающихся отечественных ученых, делавших крупные открытия, то обстоятельство, что эти открытия делались в рамках глобального научного взаимодействия, оставалось за скобками.
Но, конечно, одним идеологическим обеспечением поставленных целей не добьешься. Это сейчас многие думают, что достаточно выдвинуть красивый и «правильный» лозунг, заставить всех его повторять, и реальность волшебным образом изменится.
Тут нужен целый комплекс решений в разных сферах. Прежде всего — система образования. Она ориентировалась, во-первых, на фундаментальные знания, во-вторых — на умение творчески работать с этими знаниями, на отбор и воспитание «талантов». И вот эти таланты, которые, особенно в 1950-1960-е годы всячески поощрялись, как материально, так и морально, призваны были решать задачу «сделать не хуже, чем на Западе, при гораздо более бедном предметно-технологическом множестве».
Далее — особая структура организации науки и техники, где в центре находилась Академия наук, то есть учреждение, ведавшее развитием фундаментальной науки. Иерархия научных учреждений: академические, отраслевые и т. д. Система планирования научно-технической деятельности и, соответственно, финансирования.
И в общем, все это дало результаты. Мы до сих пор гордимся достижениями советской науки и техники: атомная и водородная бомба, первый спутник, первый человек в космосе, гражданские и военные самолеты. До сих пор, несмотря на два с лишним десятилетия деградации, мы еще сохраняем способность производить некоторые виды продукции на мировом или близком к нему уровнях. Хотя, конечно, эти возможности резко сократились и продолжают сокращаться, равно как и созданный в советское время технологический задел.
И сейчас многие с ностальгией вспоминают те времена, постоянно раздаются призывы восстановить советскую модель образования, советскую систему организации науки, и тогда...
Давайте посмотрим на все это с другой стороны.
Советская модель НТП порождала целый ряд проблем, которые со временем не разрешались, а только накапливались.
Одной из самых больных проблем развития науки и техники в СССР было внедрение. Изобретателей, талантов было много, изобретений тоже, в том числе и весьма эффективных. Но в народном хозяйстве они не использовались. Их приходилось внедрять: чувствуете, сколько напряжения в этом слове. А сколько его было в самом процессе!
О проблеме внедрения писала пресса, она регулярно обсуждалась на разного рода совещаниях, вплоть до самого высокого уровня: на пленумах ЦК и съездах КПСС.
И ведь если бы речь шла только об изобретениях. Мне рассказывали такую историю про банальные кухонные гарнитуры. Все знают, что это такое: шкафчики, сушка, мойка, стол, уголок и т. д. Ничего сильно инновационного в этом нет. Так вот, в СССР они не производились, их делали, кажется, в ГДР, был страшный дефицит. И вот, то ли в Министерстве торговли, то ли еще в каком-то ведомстве возникла идея, как бы мы сказали сейчас, локализовать производство кухонных гарнитуров в нашей стране. Тем более леса у нас много.
Идея не просто возникла, но и нашлись энтузиасты, которые смогли уговорить начальство, и проекту был дан ход. Так вот, первый советский кухонный гарнитур появился почти через 10 лет (кажется, через девять) после того, как все согласились, что их надо производить.
И дело здесь не только в бюрократизме. Пришлось создать две новые подотрасли, то есть выделить инвестиции, построить заводы, произвести, закупить и наладить оборудование. Еще несколько новых производств было запущено на уже существующих заводах — а у тех план, нехватка ресурсов и рабочих рук.
А ведь речь шла не о чем-то новом и неведомом. Все это производилось на Западе, и даже в социалистической Германии, так что надо было просто скопировать то, что уже было. А когда речь идет о чем-то новом? Скажем, новый станок, в котором больше половины деталей оригинальных, которые никто до сих пор не делал.
Опытный образец-то работает прекрасно, но детали для него сделали в институтских мастерских местные умельцы «на коленке». Но теперь ведь надо все это запускать в серию. Кто будет делать детали? Строить новые заводы? А достаточен ли объем производства, чтобы они работали эффективно? Размещать на уже действующих предприятиях? Но их мощности уже загружены под завязку плановым производством.
Кстати, вопрос о том, чтобы иметь резервные мощности, «как на Западе», тоже обсуждался, но эта идея казалась еретической. Понятно, откуда лишние мощности на Западе — там постоянные кризисы и анархия вследствие противоречия между развитием производительных сил и производственных отношений. А у нас плановое хозяйство, мощности должны работать на благо людей день и ночь (одной из непопулярных в обществе идей, призванных обеспечить «ускорение» СССР во второй половине 1980-х годов, был переход на трехсменную работу). Так ведь можно договориться и до того, чтобы безработица была — в перестройку и до этого договорились.
К сожалению, я так и не смог найти документ, но помню его хорошо. Это было, наверное, постановление ЦК и Совмина. Я тогда был молодой и глупый, и над ним смеялся. Вот, думал, какие придурки нами руководят. Сейчас понимаю, что я тогда был неправ, а дяденьки из ЦК и Совмина лучше разбирались в ситуации и понимали, что такое предметно-технологическое множество [91], хотя и выражения такого не знали.
Речь там шла, с одной стороны, о том, что надо существенно ускорить создание и внедрение принципиально новых машин и оборудования, а с другой стороны, устанавливалось, что не должны приниматься к рассмотрению изделия, более чем на 1/3 состоящие из новых деталей. Вот это сочетание: требование принципиальной новизны с «не более 1/3 новых деталей» — меня сильно тогда повеселило.
Почему требовали принципиальную новизну — понятно. За внедрение новой продукции давали премии, и обычно под видом новой продукции выпускались слегка видоизмененные старые изделия. С учетом вышесказанного понятно, что так было легче.
Но как, думал я, создать что-то принципиально новое, заранее ограничив изобретателя жесткими рамками. Для меня тогдашнего проблема внедрения была исключительно проблемой бюрократизма и неповоротливости плановой системы. Сейчас мне гораздо яснее, какие противоречия порождала советская модель научно-технического прогресса и насколько трудно было с ними справиться.
Как вы понимаете, когда речь шла о вопросах обороны, тут все ограничения отбрасывались. Всех волновал только один вопрос: соответствует ли данное новое устройство поставленным целям или нет. Если соответствует, то, хочешь не хочешь, приходилось создавать под него все необходимые производства, не считаясь с издержками.
Все это было, как вы понимаете, жутко дорого. Но кроме того, складывалась и соответствующая структура оборонно-промышленного комплекса, которая способствовала еще большему удорожанию продукции. Я хорошо помню, что самым распространенным упреком в адрес советской оборонки был высокий уровень монополизма. А что такое монополизм? Это значит, что производитель имеет возможность диктовать свои условия, в том числе и по уровню цен. Вообще говоря, это положение сохраняется и по сей день. Некоторое время назад шла дискуссия по поводу возможности закупки зарубежных образцов вооружения, и одним из аргументов был как раз монополизм нашего оборонно-промышленного комплекса, который задирает цены на свою продукцию выше мировых.
В пример нам ставили западные страны, в которых уровень монополизма гораздо ниже, фирмы борются за получение государственных контрактов и вынуждены снижать цены. А следовательно, и нам надо организовать конкуренцию, и тогда оборонная нагрузка на экономику уменьшится, а военные смогут получать более качественное вооружение.
Ну, что касается того, как все организовано на Западе, — тут было, конечно, много иллюзий. Реальность сильно отличается от красивых теоретических моделей. Но здесь речь о другом. Монополизм советского оборонно-промышленного комплекса возник не сам по себе. То, что монополизм вреден, в Советском Союзе было хорошо известно. Работу Ленина про империализм, где говорилось о загнивании монополий, учили на всех уровнях образования, начиная со школы, чуть ли не наизусть. И где можно было, конкуренцию внедряли искусственно, вспомним те же самые авиационные КБ.
Но как ни борись с монополией, сама модель научно-технического прогресса постоянно порождала ее и способствовала расширению ее масштабов. Вот мы изобрели и поставили на вооружение новый вид оружия. Для его производства нужно множество деталей, подавляющее большинство которых используется только в данном устройстве. В других видах вооружений они не используются, в гражданском секторе тоже. Про использование в гражданском секторе можно, конечно, сказать, что тут мешала секретность. Об этом тоже много говорили, но, когда это ограничение ослабло, не так много оборонных наработок оказалось пригодным для использования в гражданском секторе.
Еще раз — речь идет о недостатках модели научно-технического прогресса. Нужно было в первую очередь думать о том, как сделать данное конкретное изделие, а не о том, как вписать его в существующую систему разделения труда, в предметно-технологическое множество. Для характеристик самого изделия это было хорошо, а вот для экономики в целом оборачивалось излишними затратами.
Размер оборонного заказа достаточно жестко определен [92], сколько изделий надо будет произвести — известно. Следовательно, известно и сколько деталей для конечного устройства надо произвести. И что, строить несколько предприятий для производства деталей, которые больше никому не нужны, только для того, чтобы организовать конкуренцию? На самом же деле в большинстве случаев производство деталей налаживалось на самих головных предприятиях, которые превращались в малоуправляемых монстров [93].
Когда их попытались переориентировать на производство гражданской продукции, то гигантский уровень накладных издержек похоронил эту затею. Не говоря уже о технических проблемах. Вообще говоря, все недостатки структуры военно-промышленного комплекса наглядно вылезли наружу, когда перед ним была поставлена задача конверсии, которую остряки назвали чем-то промежуточным между конвульсией и диверсией.
Тут мы опять-таки бездумно копировали Запад, не понимая принципиальную разницу между экономическими моделями. США было гораздо проще провести конверсию, чем нам, хотя и там проблем хватало. Но все-таки. Цифры совершенно условные, тут важно соотношение. В Америке, допустим, 80% используемых компонентов бралось из совместного, военно-гражданского предметно-технологического множества. Допустим, что 10% — это сборочные мощности, еще 10% — компоненты, которые используются только в оборонном секторе.
Вот с этими последними десятью процентами действительно непонятно, что делать. То есть понятно — пытаться коммерциализовать, но результат может быть неоднозначен. С 10% сборки — тоже проблемы, хотя и меньше. А по остальным 80% принципиальных проблем нет, хотя, конечно, тут будет снижение рентабельности, надо искать новые рынки и т. д.
А у нас соотношение обратное. Сборка — те же 10%, еще 10% — это то, что может представлять интерес для гражданской промышленности. А 80% — это специфически военная продукция. Причем первые 20% существуют не отдельно, они «погружены» в эти 80%. То есть предприятие перестает использовать 80% мощностей, и должно на оставшихся 20% обеспечить какую-то эффективность. И что тогда сетовать на высокий уровень накладных расходов на наших, скажем, машиностроительных предприятиях?
Понятно, почему конверсию было принято сравнивать с диверсией, и до сих пор руководители оборонных предприятий произносят это слово с содроганием.
В гражданской промышленности, как нетрудно догадаться, избыточные издержки не допускались. Впрочем, там и занавес был не такой плотный. Поэтому гражданский сектор, когда вставал вопрос о новых продуктах, ориентировался на западное предметно-технологическое множество, на импорт оборудования (вспомним тот же многострадальный ныне АвтоВАЗ). Потом выяснялось, что если мы закупаем оборудование, то надо и сырье закупать, но пока цены на энергоносители были велики, все это как-то могло работать.
Социальные издержки советской модели НТПКак СССР создавал своих могильщиков. |
Но у работавшей в СССР модели научно-технического прогресса были и другие, не столько экономические, сколько социальные издержки. Они менее бросаются в глаза, но их разрушительная роль в конечном счете оказалась огромной. Чтобы понять их природу, давайте опять на условном примере сравним ситуацию в СССР и в США. В 1980-е годы приводились такие цифры — я не знаю, как они считались, но это и не очень важно: якобы и у нас и у них насчитывалось по 4 миллиона научно-технических работников. Я сейчас не очень понимаю, как такие цифры вообще можно получить, учитывая практически полную несравнимость институциональных структур, но давайте будем пользоваться ими. Понятно, и любому, кто работал в научно-технической сфере, это совершенно очевидно, что далеко не все эти 4 миллиона в СССР были талантами. Да, таланты искали, таланты воспитывали, таланты поощряли — но сделать всех талантами невозможно. Во многом это лотерея. Но предположим, что благодаря всем усилиям удалось добиться, чтобы из этих 4 миллионов у нас было 50 тысяч настоящих талантов. Это очень много, но нам много и требовалось. А что в США? Там, конечно, тоже были какие-то элементы поиска отбора и воспитания талантов, особенно после того, как они стали проигрывать гонку в космосе. Но речь идет именно об элементах, а не о всеобъемлющей системе. Образование было ориентировано на то, чтобы сформировать «крепкого» специалиста, а вот выбор — идти или не идти по пути таланта — предоставлялся самим людям. В сущности, в этом и заключается суть многоступенчатого образования, которое мы сейчас пытаемся копировать, порой с анекдотическими последствиями. Ты можешь учиться 4 года — и становишься специалистом, который сразу может пойти работать и приносить пользу. Никто не говорит тебе, что ты должен быть талантом, да ты и не претендуешь на это. Достаточно того, что ты потратил время и силы на обучение, и благодаря этому имеешь возможность претендовать на более высокий уровень заработной платы, чем те, кто образование не получил. Все в рамках теории человеческого капитала в ее классическом виде [94]. А если человек вдруг понял, что у него есть потенциал добиться большего, иными словами, он претендует на положение таланта, он может продолжить учебу, но тут уж он принимает на себя и все возможные риски. Хотя на этом этапе такой выбор и может поощряться, если человек с точки зрения окружающих действительно демонстрирует признаки таланта. Допустим, что в результате в США из 4 миллионов научно-технических работников одна тысяча — это таланты. То есть в 50 раз меньше, чем в СССР. Мало? А это как посмотреть. На самом деле научно-технический прогресс в США может идти достаточно долго, даже в том случае, если талантов вообще не будет. Его будут делать «крепкие» специалисты. Ведь - чему их учат и - в чем заключается их работа? Их учат работать с предметно-технологическим множеством. Они должны хорошо знать свой сегмент этого множества и, когда возникает проблема, найти наилучший способ ее решения с использованием уже имеющихся возможностей, в том числе и путем создания комбинаций в рамках своего сегмента. Эти новые комбинации добавляются в ПТМ и могут становиться основой новых комбинаций и т. д.
Таланты, конечно, тоже полезны [95]. Они могут либо создавать новые, уникальные комбинации элементов ПТМ из разных секторов, либо придумывать что-то принципиально новое. При этом каждый разработанный ими новый элемент ПТМ немедленно поступает в распоряжение 3 миллионов 999 тысяч крепких специалистов, которые сразу же начинают использовать его в своей деятельности, строя новые комбинации. А теперь вернемся к СССР. Про 50 тысяч работников научно-технической сферы мы понимаем, кто они такие. А что мы можем сказать про остальных 3 950 000 работников? Как их назвать? А они «неталанты». То есть с точки зрения существующей системы образования, мотивации, пропаганды они — неудачники. Понимаете, если бы могли взять человека в подростковом возрасте, посмотреть на него и сказать: вот из него наверняка получится талант, то эти 3 950 000 человек были бы не нужны. Им бы сказали: незачем тратить государственные деньги на ваше образование, идите на заводы, там рабочих рук не хватает. Но это невозможно. Потому что мы имеем дело с очень тонкой и зыбкой материей 96. Это вероятностное явление. Если нам надо много талантов, мы должны взять достаточно большую генеральную совокупность, а уже из нее в результате некой целенаправленной, но все равно случайной процедуры мы получим некоторое количество талантов. СССР и США отличаются процедурой формирования выборки — поэтому и такие разные результаты (приведенные мною условные данные вовсе не свидетельствуют о том, что я считаю американцев в 50 раз более глупыми, чем советские люди).
Но в нашем случае речь ведь идет не об отвалах мертвой породы, которые, впрочем, тоже не очень полезны, поскольку загрязняют окружающую среду. Речь идет о живых людях. Их учили в предположении, что они станут талантами, а они ими не стали. Их не учили, что делать, если они окажутся неталантами. Большинство этих людей никогда в жизни не могли признаться себе и окружающим, что они неталанты, неудачники. Сами себя они оценивали как таланты, которым просто не повезло. Их не заметили, не оценили, не поручили дело, в котором они бы себя обязательно проявили. И они будут искать все возможные способы, чтобы доказать другим, что они таланты. Не удается на работе — тогда за пределами работы. Ну, хотя бы в клубе самодеятельной песни. Или в «талантливом» образе жизни, который в основном сводился к следованию различным модным интеллектуальным течениям: йога, восточная мистика, поэзия и прочая литература, походы, кухонные посиделки с разговорами о «высоком» и прочее, и прочее, и прочее. Тех, кто официально признан талантом, они признавать не намерены. Они считают, что тем повезло, что они выдвинулись не благодаря своему таланту, а благодаря связям, родству, умению понравиться начальству. Увы, подозрения не всегда беспочвенные, такого рода примеры всегда можно подыскать — и они укрепляли «неталантов» в убеждении своей правоты. Если в США талант всегда мог рассчитывать на 3 999 000 крепких специалистов, от которых он мог получить помощь в своей работе: подержать инструмент, собрать и обработать информацию, провести рутинные расчеты или серию однообразных экспериментов, — то в СССР талант все должен был делать сам. 3 950 000 неталантов считали ниже своего достоинства помогать своим «более удачливым» коллегам. У них были собственные идеи и проекты, которые, как они надеялись, рано или поздно докажут их состоятельность как талантов. Так что эффективность работы таланта в разных системах отличалась разительно. Чтобы обеспечить талантам возможность поддержки их усилий, в СССР пошли по пути наделения их административными полномочиями. Под них создавались институты, в которых они становились директорами. В реальности же такие решения через некоторое время приводили к обратному эффекту. Не буду сейчас углубляться в эту тему. Каждый может путем несложных логических операций воссоздать тот широкий спектр негативных следствий, который сопровождал такую стратегию. Если бы негативные последствия, порождаемые советской моделью НТП, ограничивались только научно-технической сферой, это было бы еще полбеды. Но они затрагивали общественно-политическую сферу в целом. Еще раз повторю: система постоянно и во все более широких масштабах порождала неудачников, людей, которые с точки зрения существовавших в обществе критериев не состоялись. Причем речь идет не о людях, подводящих итог своей жизни и размышляющих об упущенных возможностях, копаясь на даче. Речь идет о людях, находящихся в расцвете сил, которые в какой-то момент понимали, что они уже ничего изменить в своей судьбе не могут. Речь, напомню, идет о миллионах людей, и их число постоянно росло. Естественно, что смириться с таким положением дел большинство из них не хотело и не могло. Им надо было кого-то обвинить, и они обвиняли в этом общественное устройство. На активный протест решались немногие, но общий уровень недовольства нарастал. И просто в меру роста численности этой группы, ощущавшей себя отдельной социальной стратой. И в меру усиления административных элементов в организации той сферы деятельности, в которой они были заняты. При этом недовольство усилением администрирования в научно-технической сфере легко перекидывалось на административную, или, как, начиная с некоторого момента, стало принято говорить, административно-командную систему в целом. При этом существовал и был доступен для наблюдения, пусть и отрывочного, образец для сравнения. Я об этом уже говорил в одной из предыдущих лекций. Только тогда речь шла лишь об уровне доходов, сейчас, я надеюсь, вы поняли, что речь шла о чем-то гораздо большем и более фундаментальном. Опять-таки, на Запад смотрели сквозь призму того, как была устроена научно-техническая сфера в СССР. И оценивали ее исходя из советских критериев. Если исходить из этих критериев, то, конечно, любой случайно выбранный специалист в СССР был «умнее» любого своего американского коллеги. В то же время, если любой американский специалист ощущал себя состоявшимся в жизни человеком, советский специалист находился под гнетом комплекса неполноценности. Он чувствовал себя неудачником. Многим казалось, что дело тут только в уровне оплаты труда — и этот «денежный» фетишизм проявился в конце 80-х годов очень наглядно. Да и до сих пор, насколько я могу судить, он продолжает отравлять сознание интеллектуального класса, хотя и в других формах. Не буду сейчас обсуждать вопрос об истоках и причинах такого явления, как перестройка. Но как только политический и идеологический контроль в советском обществе немного ослаб, миллионы людей с энтузиазмом бросились в приоткрывшуюся щель, посчитав, что получили шанс изменить свою судьбу. Это было меньшинство, но это было говорящее меньшинство — те, кто умел сформулировать и выразить хоть каким-то образом свои ощущения и мысли. Эти люди не просто расширили изначальную щель — они снесли и дверь, и стены, и все здание. Ну и как всегда положено в таких случаях, когда ты проявляешь деятельную активность, не подкрепленную адекватной мыслительной активностью, эти люди стали едва ли не главными жертвами своих собственных действий. И это продолжается по сей день [97]. |
Так что, как мы видим, советская модель НТП при всей своей привлекательности и обаянии, которые она сохраняет до сих пор, сопровождалась менее заметными, но при этом гигантскими издержками как в самой научно-технической сфере, так и в общественной жизни (причем часть этих издержек до сих пор рассматривается в качестве составной части позитивного мифа). Да, у советской модели были достижения, которыми можно гордиться и плодами которых в некоторых сферах мы пользуемся до сих пор. Но разрушительный потенциал воспроизводства этой модели в конце концов перевесил.
Что мы хотим получить от реформы российской системы образованияЧто делать с нашей системой образования? |
На самом деле обо всем этом можно было бы говорить гораздо больше и подробнее. Но пора уже подводить итоги. Тут есть два аспекта. Начнем с того, который имеет актуальное практическое значение. Что делать с нашей системой образования? У меня нет рецептов, и я не собираюсь спешить их предлагать. Мой взгляд на проблему односторонний, с позиций экономиста. Тем не менее мне кажется, что тем людям, которые занимаются вопросами образования, — и администраторам, и практикующим работникам этой сферы — следовало бы учитывать в своей деятельности то обстоятельство, что существует и такой способ описания проблем, который предлагаю я. Чиновники от образования при поддержке некоторых экспертов сегодня активно преобразуют нашу систему образования по западному образцу. Но у меня возникает вопрос: понимают ли реформаторы, что именно они делают. Видят ли они, что переходят от одной фундаментальной модели к другой? Или они считают, что модель одна и та же, просто формально по-разному организованная? А реализовывать эту новую модель на практике должны люди, сами получившие образование в СССР или по советской модели. Они чувствуют, что реформы разрушают старую модель, но не понимают, какую надо строить. Отсюда и мощное сопротивление. Советская модель была целостной — на уровне интуиции все понимали, в чем заключается задача образования (выявлять и воспитывать таланты), как ее достигать и как оценивать результаты. Были проблемы с несоответствием формальных и реальных оценок, но это было привычно, и большинство умело приспосабливаться. Что же касается новой модели, то она четко не сформулирована. Конечно, часто говорят про «компетенции», но ведь надо еще пояснить, что это значит. Многие ведь думают, что этим словом обозначается то, что привычно, а почему для этого надо применять новый термин — так это причуда реформаторов. Они вообще все переназывают на западный лад. Вон, были председатели горисполкомов, теперь называются «мэры», а что принципиально изменилось? Но и с самой новой моделью, если бы ее начали внедрять по уму, тоже были бы проблемы. Допустим, мы поменяли учебные программы, чтобы студенты учились работать с предметно-технологическим множеством. Да, но с каким? С тем, которое сейчас существует в России? Но оно, во-первых, в подавляющем большинстве сфер гораздо беднее, чем западное, и даже чем было советское. А во-вторых — оно по преимуществу смешанное, то есть к архаичной советской основе присоединены какие-то элементы западного ПТМ, иногда в странном сочетании. Чтобы работать с таким ПТМ, нужны скорее таланты, чем крепкие специалисты. Или учить их работать с западным ПТМ (с которым, кстати, сами преподаватели если и знакомы, то понаслышке)? Но тогда их знания в российских условиях будет некуда применить. То есть время от времени и в отдельных местах они будут востребованы, но системно — нет. И что получается: наша модернизированная система образования должна работать на производство кадров, которые могут найти себе применение только за рубежом. Стоит ли тогда вообще сохранять собственную систему образования? Как я уже сказал, у меня нет решения этой проблемы. Она далеко превосходит мои «компетенции». Но то, что она существует, для меня очевидно. |
Вопросы, на которые у меня нет ответа, но над которыми я считаю полезным подумать всем.
Закончить я хочу разговором о более высоких материях. Вот уже более столетия назад (по классификации Друкера) сформировалась модель научно-технического прогресса, основанная на знаниях — опять-таки, в терминологии Друкера (он явно еще не знал слова «компетенции», иначе было бы меньше путаницы). На протяжении почти всего этого времени эта модель продемонстрировала высокую эффективность. Она обеспечила гигантский и очевидный прогресс техники, как в сфере производства, так и в сфере потребления.
С этим никто спорить не собирается. Но может ли этот прогресс быть бесконечным, как многие рассчитывают? Опыт экономиста говорит, что ничего вечного не бывает. Бум, даже долгосрочный, ставший привычным и обыденным, рано или поздно завершается кризисом. Это мы хорошо видели в 2007-2009 годах. Подавляющему большинству экономистов казалось, что им удалось найти формулу вечного процветания, и то, что случилось, а еще важнее, то, что воспоследовало, оказалось для них совершенно неожиданным.
И сейчас многие уповают на новый цикл научно-технического развития, который якобы запустит новый этап экономического роста. Надежды эти понятны. Никакого другого способа прогнозировать будущее, кроме как найти и продолжить за пределы сегодняшнего дня существующие тенденции, нет. Тенденция непрерывного научно-технического прогресса, как ни считай, — очень долгая.
Прогресс шел вперед, несмотря ни на что: ни на многочисленные экономические кризисы, ни на мировые войны (которые, особенно вторая из них, только давали дополнительный импульс развития). Так что убеждение в том, что нынешний кризис не помеха развитию научно-технического прогресса, в общем-то имеет под собой прочные исторические основания.
Впрочем, мы увидели, что тренд НТП неоднороден, он состоит из стадий. И вот что касается последней стадии, то мне представляется, что ее потенциал во многом исчерпан. Не только я, но и вполне себе мейнстримные экономисты заговорили об инновационной паузе.
Обратимся опять-таки к Друкеру и его книге «Великий разрыв». Составив свою классификацию этапов НТП, он ведь на этом не остановился, поскольку это противоречило его природному оптимизму (который хорош в обыденной жизни, но в научной деятельности предпочтительнее реализм). Собственно, и книгу он написал для того, чтобы заявить, что в развитии НТП начался новый этап, который обеспечит непрерывный рост благосостояния.
В чем заключается сущность этого нового этапа, он промолчал, указав лишь на появление новых предметных областей, которые, по его мнению, придадут новый импульс развитию экономики. Так вот, в книге, написанной в 1969 году, этот импульс ожидался от тех же направлений, от которых многие ждут его и сейчас, спустя 45 лет.
Те же самые информационные технологии, те же самые биотехнологии. Друкер еще не знал такого слова, как нанотехнологии (он уповал на развитие банального материаловедения), а то бы и их упомянул. Мы, правда, слово это сегодня знаем, но так и не удосужились определить, что оно означает.
На самом деле ничего принципиально нового в развитии НТП не произошло. Я обычно ни в чем не соглашаюсь с лауреатом Нобелевской премии Р. Лукасом, который в последние годы занимается теорией экономического развития, которую я постоянно критикую в этих лекциях, но в одном я с ним согласен. Он в своих лекциях по экономическому развитию как-то заметил, что не могут же люди развивать все время одно и то же, так что в том, что в разные периоды времени отрасли-лидеры (в том числе и в сфере НТП) сменяют друг друга, нет ничего такого, чему следовало бы уделять специальное внимание. Он, правда, имел в виду разного рода версии теорий технологических укладов.
Но то же самое относится, на мой взгляд, и к Друкеру с его «новым этапом» НТП. Различные сектора предметно-технологического множества развиваются не синхронно. Сначала одни, потом открываемые в них возможности применяются в других, временно отставших секторах, которые их быстро осваивают, и т. д. Я тоже не вижу в этом процессе ничего такого особенного, что бы требовало специального экономического анализа.
А что касается принципиальной новизны... Я уже рассказывал, когда на самом деле был изобретен компьютер, история которого восходит, во-первых, к часовым механизмам, а во-вторых, к музыкальным шкатулкам для развлечения богатых бездельников. Мендель тоже жил в благословенном XIX веке, когда монах мог спокойно на протяжении многих лет ставить интересующие его опыты, стремясь внести свой вклад в фундаментальную науку и не заботясь о немедленном внедрении.
Как бы то ни было, но получается, что инновационная пауза действительно есть. Изобретения вроде бы делаются каждый день, но вот уже полстолетия мы ждем, когда от них будет какой-то значимый эффект (помимо взорвавшегося в 2001 году пузыря «доткомов»).
Я уже говорил о том, что инновационная пауза связана, на мой взгляд, с тем, что остановилось углубление разделения труда, которое расчищает путь для инноваций. Потенциальные инновации накапливаются, но условия для их применения в производственной сфере не созданы. Само собой разумеется, что создание все новых и новых игрушек для взрослых детей я к НТП не отношу, хотя многие из этих взрослых детей со мной, наверное, не согласятся.
Так вот, а существуют ли перспективы дальнейшего развития НТП? Нынешняя парадигма развития НТП тесно привязана к процессу углубления разделения труда, хотя это обстоятельство до появления неокономики не было очевидным. Но теперь-то это понятно.
На самом деле, и я это постарался показать, потенциальных направлений НТП бесчисленное множество, и то, в котором мы случайно оказались, быть может, не самое лучшее из них (если бы мы еще могли понять, по какому критерию оценивать эту самую «луч- шесть»). Оно в определенный момент слилось с процессом разделения труда, а дальше получился синергетический эффект, когда одно подпитывает другое, а все возможные альтернативы отбрасываются.
Может ли существовать направление, модель НТП, не так тесно увязанная с разделением труда? Можем ли мы производить лучше и больше при том же уровне разделения труда? Обязательно ли труд должен упрощаться? Может быть, следует подумать о том, чтобы труд усложнять? Не в том смысле, чтобы вернуться к ремесленному производству, но в каком-то другом. |
Я не случайно вспомнил советскую модель научно-технического прогресса. Она показала, что альтернативные возможности есть. Кстати, она продемонстрировала и как должна меняться структура труда — в советской модели требовались и высококвалифицированные работники, то есть труд усложнялся. Тут нелишне вспомнить, что при переходе к рыночной экономике у нас в стране считалось, что наличие квалифицированных кадров является нашим конкурентным преимуществом. Про тенденции разделения труда мы еще ничего не знали (и я в том числе), а вот жизнь наглядно показала, что именно является конкурентным преимуществом. Это я про китайскую модель экономического развития, построенную на дешевой и неквалифицированной рабочей силе. Но советская модель, как я показал, помимо достоинств, обладает и множеством недостатков, причем весьма серьезных. Хорошо, что теперь мы их знаем и понимаем, по крайней мере некоторые из них. Некритически брать советскую модель НТП и пытаться ее повторить нельзя. Но вот думать о том, как ее видоизменить, чтобы она могла обеспечить дальнейшее научно-техническое развитие в мире, необходимо. Я понимаю, что это очень сложная задача, но и время сейчас тяжелое, и проблемы, которые перед нами стоят, не простые. |
Напоминаем, что полная электронная версия книги в форматах PDF, EPUB & FB2 доступна здесь.
|
|
ЭПОХА РОСТА
РАСЦВЕТ И УПАДОК МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОГЛАВЛЕНИЕ
- CЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
- Глава 1. О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА
- Глава 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ. МОНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
- Глава 3. "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ. ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ"
- Глава 4. ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТУР
- Глава 5. Часть 1: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТУРОВ: ДЕНЬГИ
- Глава 5. Часть 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТУРОВ: ПРОЦЕНТ
- Глава 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОНТУРОВ: РЕНТА
- Глава 7. ЧАСТЬ 1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. ФИРМА
- Глава 7. ЧАСТЬ 2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
- Глава 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
- Глава 9. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
- Глава 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ
- ПРИМЕЧАНИЯ к книге ЭПОХА РОСТА