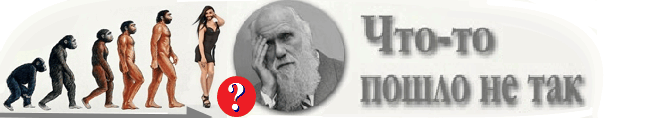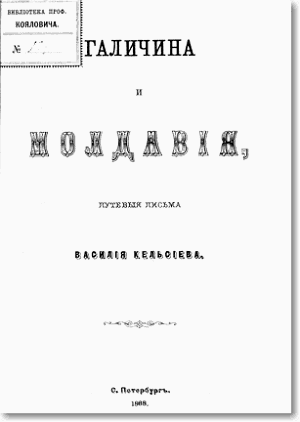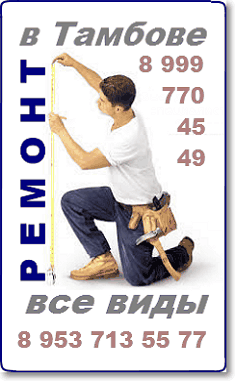начало Галичина и Молдавия предыдущая Иереи и евреи следующая Евреи I-II
Иереи
IV
Много светлых и хороших личностей вызвало воскресенье русской народности в 1848 г. К сожалению, говорить об них печатно не совсем удобно, потому что это было бы выдачею их полякам. Для характеристики галичан я возьму только несколько человек, которые уже перебрались сюда из Австрии или перебираются.
Яков Федорович Головацкий, так хорошо нам теперь известный, должен был не только покинуть край, где он был полезнее, чем у нас, но даже кафедру и почти отказаться от дела, которому посвятил всю свою жизнь. Переселившись теперь в Вильну и сделавшись там председателем археографической комиссии, Яков Федорович может быть полезен только как ученый, тогда как в Галичине он был и кабинетным ученым, и собирателем песен из уст простого народа, и политическим деятелем. Мягкий, уступчивый, уклончивый, Головацкий заслужил у поляков название переметчика, потому что несколько раз он действительно держал их руку и несколько раз становился на русскую сторону. Он писал свое имя польскими буквами: иногда Glowacki, иногда Holowacki, а наконец Golowacki, и над ним за это много издевалась и издевается “Газета Народовая”, а это делает величайшую честь новому русскому подданному. Это покажется может быть, парадоксом, а в сущности это так, потому что не даром же честный и талантливый человек может, родясь в бывших владениях Речи Посполитой и в австрийском государстве, морально порвать с ними. Только пустые люди сразу приходят к решительному убеждению, – для людей мысли и дела нужны годы, чтоб на чем-нибудь остановиться. Я выше рассказывал, как Головацкого преследовали за то, что он издал в Пеште “Русалку Днестровую” гражданским шрифтом и с малороссийскими тенденциями: как нисколько лет он не мог добиться рукоположения в священники, к чему с детства готовился, как потом без копейки денег, он сумел, несмотря на все враждебные условия, обойти пешком каждую деревушку, если не каждую хатку в Галичине и в Угорской Руси, собрать песни, предания; порыться во всех церковных архивах, написать массу исторических сочинений и все это будучи простым деревенским священником, имеющим тот ничтожный доход, о котором я упомянул выше. Настойчивостью, железной волей о. Головацкий добился того, что попал на кафедру Львовского университета профессором русского языка и словесности, где ему приходилось с боем отстаивать перед поляками преподаваемый им предмет. Поляки хотели чуть не двадцать лет кряду, во что бы то ни стало, чтоб он преподавал студентам руский язык, а не русский (т. е. не российский, не московский). Они требовали, чтоб он содействовал им убить насмерть традиционное правописание; они требовали, чтоб он изгонял из галицкого литературного языка все общерусские выражения и заменял их польскими, говорил бы, например, стосунок вместо отношение, стан вместо положение, товариство вместо общество и т. д. и т. д., т. е. запутал бы местный язык полонизмами и провинционализмами до такой степени, чтоб всякий возврат к общерусскому языку или к его родному брату, церковному, сделался бы невозможен. Уж как ни ухаживали за о. Головацким поляки, каких пружин они ни пускали в ход, чтоб склонить его на свою сторону – он, колеблясь, уступая в частностях, в общем выиграл; его имя стало символом русской народности в Галичине, его пример – завещание галицкому люду. Сам он начал с правописания фонетического, как и напечатана – “Русалка Днестровая” – одна из бесчисленных попыток сделать из южнорусского не простонародное, а литературное наречие. Сочувствовать нам, особенно в 40-х годах и даже, сказать правду, в 50-х, было не за что – плеть, цензура, крепостное право, кулачная расправа никого не могли прельстить, и люди, искренно желавшие добра южнорусскому народу, не раз задумывались, не порвать ли с великорусами? или не столковаться ли как нибудь с поляками? Все, как ни была плоха Речь Посполитая, но при Стефане Батории русскому народу жилось хорошо, крайне совсем плохо жилось при Ягеллонах. Что действительно тогда начиналось порабощение простонародья еврейством и еврейским элементом, то в этом виноваты ли, кажется, не столько поляки, у которых в Кракове тогда не только литературы не было, но даже придворным языком был русский, а Краков весь был покрыт православными церквами – виноваты сами русские. Само боярство белой, (алой и Червонной Руси поработило народ, бросило свой язык, свои обычаи, само добровольно полезло в польский кузов. Его пленил блеск латинской цивилизации, и оно, как Исав, продало свое первенство за чашку похлебки, да и не из каких-нибудь трюфелей, а из самой простой чечевицы. Так мудрено ли, что южное и западное русское племя, растратив в лице своих представителей, тогдашних бояр и отчасти мещан, до сих пор не может вырваться из-под гнета польской народности, и что каждому западному русскому тяжелым процессом мышления дается возможность воротиться в общее русло русской жизни. Один колеблется над выбором между Варшавой и Москвой, другой – вздыхает о Киеве, третий о Сечи, четвертый утонул в уний, а пятый даже в католицизме. Борьба для них стала легче не благодаря задаткам, положенным в нынешнее царствование, еще десять лет тому назад эти задатки существовали только в виде плана, а никак не в виде фактов. Тяжелым искусом нужно было пройти, чтобы из Glowackiego превратиться, в своих собственных глазах, в Головацкого (Holowackoho), а из этого наконец дойти до Головацкого.
Товарищ, приятель и деятельный помощник о. Головацкого, ратай за русское дело, замечательный администратор, распорядитель, это – клирошанин Куземский, недавно рукоположенный в холмские униатские епископы, человек, от которого мы имеем полное право ждать, что он выручит нашу холмскую униатскую епархию от власти поляков, Куземский был в последнее время душой Народного Дома, строителем всяких церквей, основателем русских школ и сделал чудеса, служа блюстителем школ при покойном митрополите Яхимович. Когда он вступил в управление приходскими училищами, их было не более тридцати. Через десять лет их стало тысяча тридцать – цифра, которая говорит сама за себя. Ненависть поляков к Куземскому одинакова с их ненавистью к Головацкому, и если римская префектурия согласилась нам отдать Куземского, то далеко за причиной подобной любезности ходить не следует. Теряя с каждым днем почву в России, католицизм и польщизна хотят укрепиться в Австрии и поэтому стараются легальным образом сбыть с рук всех столпов галицкой Руси. О. Головацкий и Куземский были у них бельмом на глазу. Если бы они могли избавиться еще от трех, четырех подобных личностей, которых я не назову, их дело было бы выиграно.
– Знаете что, говорил мне один из тамошних русских деятелей – нас так мало, мы так слабы, что потеря одного доброго русина для нас – страшное несчастье. От доброго сердца русское правительство недавно предложило нашей молодежи приезжать в Россию и поступать в коронную службу учителями и чиновниками. С лучшими рекомендациями мы послали к вам двадцать человек молодых людей, которые уже выучились и на которых правительство может смело положиться, но мы уступили их вам скрипя сердце, потому что вы в них нуждались, а мы готовы всем жертвовать для русского народа. У нас лишний русский чиновник, лишний русский учитель имеет колоссальное значение; у вас они потонут в массе и, чего доброго, не принесут столько пользы русскому делу, сколько бы нам хотелось. Берите у нас молодых священников, берите старых священников, вы нам сделаете этим услугу, потому что духовное звание для нас самое верное и надежное средство существования, а сверх того величайшее орудие бороться против польщизны. Вместо русских чиновников, учителей, посадят у нас поляков или немцев, тогда как на место меня, священника, ксендза посадить нельзя, а я на месте ксендза состоять могу. Требник латинский короток, хитростей он никаких не представляет, посижу я за ним недельку, вот я и ксендз, в особенности, если же я девственник или вдовец, латинскому же ксендзу в священники попасть мудрено. Народ они вообще неразвитый, потому что такому же молодому человеку охота идти в ксендзы, когда первое условие его сана быть девственником и вот в ксендзы идут люди, которым даваться более некуда. Способности быть юристом у него нет, механиком тоже нет; а курс латинского богословия проходится в их семинариях (духовных академиях) спустя рукава, и даже те, которые идут в ксендзы из политических целей, изучают богословие далеко не так серьезно, как мы. Мы знаем и латынь, мы знаем и по-гречески лучше их, да, сверх того, мы знаем и по староцерковному. Чтобы быть священником, надо знать Уставь, а Устав нашей восточной церкви выучить довольно не легко: надо знать наизусть всю литургию Василия Великого, да сверх того литургию Иоанна Златоуста, вдобавок, всякие всенощные, вечерни, утрени, ксендз. Потом, русский священник волей – неволей должен хорошо знать полунощницы, великопостные службы, а от этого отшарахнется с ужасом любой русский язык, а на место польского ксендза Иосифа II, чтоб отличить поляков, сажал им не только чехов да хорватов в ксендзы, а даже просто немцев. Священник с народом живет, а ксендз может с народом и не жить. Поэтому мы, русские священники, не можем быть нерусскими по происхождению. Так берите же вы, господа россияне, в вашу холмскую епархию нам священников, и берите сколько вашей душе угодно. Мы, пан, будем за это бесконечно благодарны; чем больше будете брать, тем больше вакансий будет открываться на приходы, тем будет и для вас лучше, да и для нас тоже. Только не отнимайте у нас чиновников и учителей. Священников нам выгодно посылать в Польшу: в Польше живет много униатов. Униаты, из недоразумения, пугаясь бороды православного священника и считая православие схизмой, идут охотнее в костел, чем в православную церковь, и этим, разумеется, полячатся. Если он женат на католичке, то в Польше он должен крестить своих детей у ксендза, т. е. записывать их в католики. Отсутствие униатских церквей во всех городах Польши – зло страшное для нас, зло тем более исправимое, что как в униатской церкви католическое епархиальное начальство может исходатайствовать себе право поставить католический алтарь, так точно и наше униатское епархиальное начальство, где-нибудь в Польше, могло бы почти ко всем костелам поделать русские приделы. Посмотрели бы мы, галицкие священники, долго ли бы тогда продержался католицизм в Польше! Уния, какая ни на есть, все-таки вера русская, и вся разница между православием и ею состоит покуда в бороде, в одежде, в незакрывании царских врат во всю службу, да в двух – трех мелочах. Униатский священник не может не привлечь на свою сторону мазуров, а мазуры, расставшись с своей польской верой – католицизмом, расстанутся окончательно с польской народностью.
Признаться сказать, этот проект галицкого агитатора показался мни несколько странным. Я усомнился в его практичности.
– Хотите, сказал он мне – я вам докажу, что даже при всем нашем стесненном положении, мы производим эту операцию над здешними мазурами? Я вам покажу священника, который в семь лет управления одним львовским подгородным приходом присоединил к русской церкви двести восемьдесят мазуров и присоединил их от соседнего ксендза, считающегося одним из талантливейших и умнейших католических богословов и человеком очень способным и очень честным?
– Курьёз меня взял большой. Я познакомился с этим священником и получил от него приглашение приехать к нему на несколько дней в его село, где я и прогостил что-то дней с десять, так что имел полную возможность видеть домашний быт галицко-русского духовенства и, узнать многое, толкуя с моим гостеприимным хозяином с утра до вечера о польских делах и о средствах распространения русской народности.
V
Мой хозяин, о. Р..., человек еще очень молодой, находится в настоящее время уже в России приходским священником около Седлец и, наверное, не прогневается, если я передам часть его рассказов. Заветная его мечта, выбрать себе широкое поле деятельности, теперь осуществилась, и, наверное, он уже открыто может прилагать свою систему к окрестному католическому населению. Система эта весьма несложна. Священник беден, потому что получает всего триста гульденов, имеет семью, детей, тратит последние гроши на русское дело, на поддержку театра, на поддержку литературы и дорожит каждым деянием своих прихожан. Он за требы торговаться не станет, – ему жить нечем. Дадут ему двугривенный – он и двугривенный возьмет, дадут ему гривеник – он и от гривеника не откажется. Что делать? Беда, нужда, есть нечего. И народ не брезгует им потому, что священник над ним не ломается и ночью пойдет исповедать больного, и если похорон, не слишком много сдерет, да и, наконец, всегда его можно застать дома, запросто, в его сапогах по колено и в длинном черном сюртуке, потому что он ни с кем не незнаком, кроме соседних священников. Придут ночью, постучат, покряхтит поп, наденет длинные сапоги, долгополый сюртук, шляпу на свою гладко выбритую и под гребенку остриженную голову, возьмет палочку, запасные лады и пойдет. Ксендзу этого делать некогда. Он аристократ, он барин, он с панами знается, и ему нет никакой охоты залезать в эти курные хаты, в эти конуры и трущобы, где в вековом сне почиет забитое простонародье бывших владений Речи Посполитой. Наконец, у него гости, обед, ужин, соседний помещик приехал к нему переночевать; тут политика, соображение о том, какое участье может принять Турция в случае нового восстания в Польше, тут Наполеон; интересы папы волнуют его душу; идет вопрос о том, насколько Кёнигсберг и Одесса польские города; план о наполнении нашего Новороссийского края польскими чиновниками; вопрос о Drang-nach-Osten-Verein’е разрабатывается!! Что ему до этих слепых мазуров, которые родились под темною звездою, и что ему в их крейцерах, когда у соседнего пана он за каждые крестины получает двадцать гульденов по меньшей мере? Костел у него блестящий, поставленный иногда даже на русском церковном погосте, в нескольких саженях от развалившейся церкви, воздвигнутой лет двести тому назад прадедами этого самого пана, отец которого, сделался, при помощи проезжего иезуита, искреннейшим католиком. Ксендз привык служить в костеле приличном, а не в лачужке, где иконостас покривился, где утварь чуть ли не оловянная, ризы в заплатах, и куда, кроме самого помещика да его дворни почти никто из села не ходит, так как мазур бывает в костеле только тогда, когда родится и когда умирает, потому что ему там с латинской мессой делать нечего, да еще потому, что чего ж свою дырявую сукню показывать ясновельможным, а в русской церкви из высших сословий могут быть только бедные чиновники, которых, как у меня выше было высчитано, весьма немного, учителя, да еще два офицера австрийской армий, из которых один и проживает постоянно в Вене... Наконец, мазур не идет в костел еще потому, что латыни не обучался, а ксендзу лень серьезно заняться устройством для него школ, хотя бы даже польских. Ксендз зависит не от хлопов и потому не имеет особого интереса развивать их. У нас католицизм все еще понимается довольно смутно; у нас не видят его вопиющих слабых сторон. Католицизм оборвался на латинском языке. Все духовенство, посылавшееся миссионерствовать в Германию, в Галию, в Британию, состояло преимущественно из итальянцев, римлян, не знавших ничего на свете, кроме латинского языка и считавших варварские языки даже недостойными для проповеди слова Божия, так как надпись на кресте ни на одном варварском языке сделана не была. Сверх того варварским языкам нужно было тоже учиться, а как же римляне могли унизиться до чего-либо подобного? Они несли к варварам цивилизацию римской церкви, но несли ее совсем готовую, со всеми ее формами, с ее языком, с ее молитвенником, костюмом; они делали то, что делают теперь американские негры в Либерии, которые просвещают Африку при помощи английского языка, костюма, по формам правительства Соединенных Штатов и с протестантскими катехизисами в руках. В Либерию забираются разные дикари Ашанти, Догомей, Мандинго, дети людоедов и мусульман приходят туда учиться, выучиваются и, возвращаясь домой, строят у себя европейские каменные дома, чрезвычайно полезные под экватором, носят сюртуки, жилеты, крахмальные рубашки, одевают своих жен и дочерей в кринолины и употребляют в домашнем быту не родной, а английский язык – то же самое значение для средневековой Европы имел и язык латинский. Римская империя пала, но Рим Римом и остался. Как теперь для африканских негров английский язык сделался языком цивилизации, так тогда языком цивилизации делался язык римский и, разумеется, как в протестантских кирхах в Африке проповедь идет по-английски, так в те времена в церквах гальских, британских, новообращенные варвары слушали Евангелие по-латыни и зевали над непонятной им латинской литургией блаженного Теронимаили Диивросия Медиоланского. Варварская аристократия, разумеется, недопонимала, о чем идет дело, но масса понимать не могла и ходила в церковь со страха или – от нечего делать, людей посмотреть, себя показать. Священник тоже не всегда понимал, что он такое читает, а если и понимал, то священнодействовал неохотно, – слушатели ему не сочувствовали. Мало-помалу явилась потребность сокращать богослужение, и потребность эта была вызвана именно непонятностью священного языка. Чем дальше шло, тем короче становилось богослужение, тем небрежнее делалось латинское духовенство, и тем более стало оно заботиться о том, чтоб как-нибудь позанимательнее сделать богослужение, чтоб молящиеся не всегда усыпали. Стройное нотное пение явилось подспорьем непонятному тексту, красноречивая проповедь загремела с высокой кафедры, и наконец, явился орган. Целость западной Церкви была соблюдена, благодаря единству ее языка. Высшие мессы от этой целости выиграли все, низшие все потеряли. Искусство век от века становилось все более и более значительной потребностью, а здравый смысл мессы стал более и более утрачиваться. Месса свелась на возможно короткую болтовню; духовенство, чуждое массе, принуждено было оторваться от нее окончательно и примкнуть к высшим сословиям. Рыцарская жизнь закипела, дамы писали латинские стихи, богатые приорьи чуть не на турнирах красовались, папа и епископы командовали войсками, цвет аристократии наполнил монастыри, а масса была так забита, как никогда ни у одного православного племени она не была забитою. Где прошла тяжелая рука латинизации, там явились полудикие лазарони, тупоумный французский paysan, раболепный тиролец, смешной шваб; Испания задохнулась в их объятиях и задушила в них южную Америку с Мексикой. Смелые попытки Гуса и Лютера, при всех их ошибках, расчистили эту удушливую атмосферу и дали низшим массам право разбирать, во что им следует верить. Но католицизм – поверхностный, блестящий, – остался и по наше время тем же католицизмом. Православие в этом отношении несравненно выше его и следовательно сильнее. То, чего добиваются теперь либеральные католики, т. е. употребления понятного языка при богослужении, женатого духовенства, некоторой свободы исследования – в православии все это есть. Православие везде церковь национальная и любимая своими последователями. Католицизм проклинает все лучшее, что есть во Франции, в Италии, в Испании, в южной Америке. Православие никогда серьезно не входило в борьбу с государством; католицизм везде знамя реакции отстаивает, он всюду status in statu, всюду враг прогресса. Православие столько для науки и для искусства, даже для цивилизации не сделало, сколько сделал католицизм; но оно дало своим последователям крепкие силы и великие залоги на будущее: оно дало им свободу мысли. Это странно, но это верно. Церковь латинская – достояние каноников, специальных богословов и догматы ее разрешаются на соборах специалистами по богословию, ее интересы охраняются конкордатами, враги ее казнятся инквизициями, личность у нее непочем и непричем, миряне лишены права рассуждать о догматах. В восточной церкви все иначе: нет патриарха и нет собора, который мог бы хоть что-нибудь изменить. Мелкие перемены в обрядах вызвали в православии бурю расколов. У православия вера в народе, у католиков в специалистах и в умственной и родовой аристократии. В каждом русском селе стоит церковь, иногда бедная, чахлая, но в воскресенье эта церковь полна народа. В католическом селе народу в церкви делать нечего, и, сравнительно, костел всегда пустее церкви. Народ ходит в костел потому, что нельзя ж не идти куда-нибудь в воскресенье. Века ввели это в потребность, в привычку, но католик в костеле вовсе не то, что православный в церкви. У католиков тысячу раз менялись обряды, и постоянно измышлялись новые договоры, у православных все стоит по-старому, потому что на стороне православия большинство, на стороне же католицизма – меньшинство.
Вот и приходит к ксендзу хлоп с просьбой венчать его, крестить его детей, приобщать умирающих, хоронить покойников, – словом за требами. Ксендзу скучно возиться с чернью, и он сам посылает его к русскому священнику.
– Мне некогда, говорит он, – я занят. Пойди ты в русскому добродею.
– Да как же, отвечает ему мазур, – пойду я к русскому добродею, я ведь не его обряда?
– Ты, хлоп, дурень, о чем ты со мной говоришь? Едина церковь, едина вера, едино спасенье, един святой отец у нас в Риме.
И хлоп идет к русскому священнику и говорит, что ксендз послал его справить свою требу к нему, что ксендзу некогда, что у ксендза гости. Русский священник ничуть не прочь: едина церковь, едино спасенье, един святой отец в Риме, вера одна и та же, он совершает требу, приласкивает хлопа, обходится с ним по-человечески и вписывает его имя в церковные росписи. Выходит так, что хлоп, другой, третий раз оттолкнутый ксендзом, опять обращается к священнику и опять попадается в росписи, а из этого истекает прямым последствием, что он начинает заглядывать в церковь, и что дети его крещены по русскому обряду, стало быть, делаются на всю свою жизнь русскими, и что когда составляются списки, кто в селе какого обряде, то оказывается, к великому удивлению ксендза, что многие мазуры поделались русинами. Дело идет в Рим, если ксендз осмеливается довести это до Рима, откуда его, разумеется, за оплошность не похвалят. Во всяком случае, оказывается такая путаница, а мазуры до такой степени обрусели, что, после долгой переписки, их оставляют в покое.
В селе Рудном подобные происшествия доходили даже до делов некрасивых. Мазуры начинали колотить своих жен за то, что те не ходят в русскую церковь, и вот из множества рассказов о. Р. один, который у меня остался в памяти:
Избитая баба побежала жаловаться к ксендзу. Ксендз отправился к о. Р. за объяснением.
– Вы поймите, отвечал о. Максимилиан, – что я уж никак не стану наущать этого хлопа бить жену. Потолкуйте с ней и дайте мне с ней потолковать; – что и было сделано.
- Слушай, сказал ей о. Максимилиан, – муж твой делает глупость, что он тебя бьет; и этой глупостью он оскорбляет веру. Христос никого силой к себе не привлекает, и если муж твой будет вести себя с тобой так дурно и так не по-христиански, то я постараюсь, чтобы он ко мне в церковь не ходил: подобной паствы мне не нужно. Между костелом и православной церковью разницы нет никакой. Разница разве только в том, что в костел ходит пан, а ко мне ходит только простой народ. Разница в том, что я даю вам причастие под двумя видами, а в костеле дается вам под одним видом. Русская церковь – вера простого народа. Причащаю я вас не пальцами, не в перчатках вынимаю из чаши тела Господня а просто смешиваю его с кровью, даю вам каждому по ложечке не взирая на то, что у иного рот нечист или губы больны и потом все, что от вас остается, сам выпиваю. В костеле делается иначе: костел простого народа не любит, хочешь ты молиться там вместе с панством – молись, вера одна; а муж твой тебя бить не посмеет, потому, что иначе я наложу на него такую епитимью, что он спасибо не скажет.Это было в субботу. С воскресенья баба стала ходить исключительно в церковь в силу убеждения.
Против подобной системы можно возразить, что она не лишена некоторой доли униатизма. Да, но не так ли ксендзы поступали и поступают с униатами? И не такими ли же самыми мерами они оттягали от них все русское дворянство? Не такими ли мерами они лишили их веры, языка, убили в них патриотизм, извратили их понимание, и не они ли довели униатское духовенство до того, что оно должно было прибегнуть к подобной системе? Не поступать так, значит, сделаться поляками. Хлопы пойдут за дворней, как дворня пошла за панами. Поляки встали было против нас во имя своей национальности и встали в то время, когда мы сочувствовали Гарибальди, а после своего повстания борются с нами в то время, когда мы так громко заявляем свое сочувствие славянским национальностям. Разбирая беспристрастно, мы не имели ни малейшего права их усмирять, а должны были уступить им и Одессу, и Смоленск, и Киев, и, пожалуй, по теории Духинского, Псков и Новгород; по теории же Чайковского – Дон, Волгу, Урал и, пожалуй, Томск, потому что там население составилось отчасти из казаков, потомков, по его словам, польской шляхты новгородского купечества. К этому мы должны были бы пристегнуть Киргизкую степь, так как в Киргизкой степи живет до сих пор рыцарский дух средних веков, и так как Киргизкая степь выработала аристократию, так называемую белую кость. По теорий Чайковского, нам следовало отказаться и от Кавказа, и не держать его в руках, потому что черкесы – народ тоже рыцарский, а на правом – даже и аристократический. Ташкент, Хива, Бухара имеют право развивать свою татарскую национальность; национальность зырянская и якутская тоже, может быть, что-нибудь принесет в сокровище рода человеческого и т. д. и т. д... С их точки зрения, мы, разумеется, неправы, мы варвары, о чем нам чуть не ежедневно заявляют иностранные газеты (нам с ними спорить, само собою разумеется, не приходится). Но нам предстоит выбор или поступиться нашим единством во имя принципов, или поступиться принципами во имя государства. Среднего нет. Приходится по одежке протягивать ножки: не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит, и очень жалко, что против поляков приходится употреблять крутые меры; очень жалко, что надо русить дикие племена во что бы то ни стало; при всей гуманности и при отвращении к кровопролитию, запасаться игольчатыми и нарезными пушками, – но плетью обуха не перешибешь, солому только сила ломит. Некрасивы действия таких иноков русской церкви, как Р., но как бы то ни было, мы обязаны действовать, хотя бы из эгоизма. Наши братья времен Дмитрия Донского, Василия Темного, Семиона Гордого были люди, по всей вероятности, крайне несимпатичные, но не будь их, мы до сих пор были бы холопами татар, или точно так же подпали бы под костел, как галицкие хлопы. От политических деятелей, как и от ей мысли изящества не требуется, – никто в вину не вменяет Бисмарку его личных недостатков... Кому какое дело до них?
Благо есть возможность покончить польский вопрос, то – и да будет он покончен. Нам меньше хлопот, да и полякам меньше мучения. Система священника Р. приложима к делу, приложима, значит, и годится, значить, и надо пользоваться – во всяком же случае, переселением его в Россию мы приобрели великого деятеля и великого пропагатора русской народности.
Говорить о священнике Лавровском, Ливчаке, брате издателя “Страхопуда”, мы не станем; последний тоже в России и тоже усердно трудится в пользу русского дела; вообще мы скажем, что хотя не знаем, кому мы этим обязаны, что подбор духовенства, перешедшего к нам, вообще как нельзя более удачен и так удачен, что возбудил ненависть местного нашего духовенства, которое подняло против пришельцев вопль оппозиции и негодования. Наше униатское духовенство, приезжавшее летом 1866 г. во Львов за рукоположением, изумило духовенство галицкое своею полуграмотностью, своим отсутствием патриотизма, польскостью и отвращением ко всему русскому. Введение в нашу униатскую епархию галицких священников произвело негодование в среде священников холмских и седлецких. Все их польские стремления были оскорблены, поруганы, и против них восстала русская сила, восстала в них собственная среда, ворвалась в их жизнь, в их быт, разрушила все их верования в превосходство западной цивилизации перед восточной. Новоприбывших окружили интригами, угостили доносами, но паленные галицкие деятели не смутились, не выдали русского дела. Честь им и слава!
VI
Что меня больше всего удивляло в Галичине, это – домашний быт священников. Я опять-таки должен напомнить читателю, что там, кроме священников, образованных русских почти нет. Для сыновей их есть гимназии и семинарии (духовные академии), для дочерей нет ровно ничего. Отдавать их в польские пансионы священники с 1848 г. не решаются потому, что польское учебное заведение, во-первых, внушит девочке отвращение к родному обряду – а обряд там есть народность, к родному языку, к родным преданиям и отучит ее ото всего, что дорого родителям, так что дочери получают воспитание только дома, – воспитание, ограничивающееся знанием русского, немецкого языков и игрой на фортепиано. Если к этому прибавить первоначальные сведения в арифметике, в географии, истории, то дальше и требовать будет нечего, т. е. ни одна из них многого не читала, не знает ни по-французски, ни по-английски, ни одна из них не в состоянии поддержать серьезного разговора, и вообще, ни одна из них, по развитию своему не равняется своему будущему мужу. Мне случалось даже видеть попадьянок, т. е. дочерей попов, не умеющих писать. Вообще, на женское воспитание галичане обратили чрезвычайно мало внимания, но винить их в этом нельзя. Они положили все свои силы, они кладут все свои последние деньги на образование деятелей. Деятельниц у них нет потому что кроме польских школ у них ничего нет, а отцы сами не могут заниматься с дочерьми, потому что и сам отец прошел столько тяжелую семинарскую науку и потому что учить своих дочерей по-латыни и по-гречески, богословию, философии, хотя бы и не лишне, но, во-первых, не принято, а во-вторых, времени даже не хватает. Вообще, развитие галицких русских дам, за весьма немногими исключением – без исключений правила нет – не превосходить развития наших девушек духовного и чиновничьего звания среднего класса, хотя я видел между попадьями женщин очень умных, которые меня закидывали вопросами о Турции, о Молдавии, западной Европе. Средств достигнуть развития наших светских дам у них не было. Вена в этом не их, но надо им отдать колоссальную честь, во-первых, в том, что они хлопочут о воспитании своих дочерей, и что они сами оказались хорошими товарищами своим мужьям. В 1866 г., когда я с ними познакомился, они все были в великом негодовании на нас. Только что перед тем, помнится, в Холме была открыта женская униатская гимназия; было не то извещено, не то слух прошел, будто в эту гимназию будут принимать бесплатно их дочерей. Человек с шестьдесят священников, собравши последние гульдены и запрягши собственных лошадок в свои допотопные брички, двинулись в город и воротились с носом; им сказали, что комплект наполнен, вакансий нет и нет особого предписания принимать учениц из-за границы. Попадьи и попадьянки негодовали и винили в этом опять-таки не Ваше правительство, а приписывали всю эту проделку какой-то польской интриге, агитации знаменитой графини Кобаг, которая, по их словам, нарочно для этого ездила, в Варшаву и, пользуясь своими тамошними связями с католическим духовенством и местной аристократией, расстроила все дело. Рассказывали мне, что эта старая графиня – знаменитый пропагандатор польской национальности в Галичине; она завела там институт служебничек, т. е. служанок: забирает польских и русских девушек к себе, учит их католическому катехизису, водит их в костел и, пользуясь своим влиянием, заставляет их переходить из русской веры в латинскую, а урожденных католичек фанатизирует, достает им места в частных домах, где они, под видом прислуги, проповедуют католическую веру и польскую народность иезуитским манером.
Галицкие попадьи – народ хороший и веселый. Был я в одном галицком селе на именинах у священника. Именины священника там справляются всеми его соседями верст на двадцать в окрестности. Именинник был человек молодой, месяцев шесть тому назад занявший приход, а месяцев восемь тому назад женившийся. Молоденькая его попадья, может быть, всего лет шестнадцати, семнадцати, очень хорошенькая собой, сидела за фортепиано и играла польки, вальсы, сменялась своей еще более юной сестренкой, сама танцевала, танцевали учителя, танцевали чиновники, и когда после ужина выпили венгерское вино, которое там очень дешево, так что каждый бедный чиновник может поставить его несколько бутылок, зашумело в головах, то и сами ученые отцы-духовники и наставники русского народа, в своих длинных сюртуках и в сапогах по колено, приударили в мазурку и в мазура. В первый раз, должен я признаться, видел я эти два танца, и в первый раз понял я, как они хороши! Наша обыкновенная бальная мазурка – карикатура на то, что я видел, а о мазуре у нас даже и понятия не имеют. Это танец чрезвычайно живой, напоминающий собой французскую кадриль, но, разумеется, без всякого канкана. Одна пара держится за руки, другая ныряет под эти руки, становится за нею, ныряет третья под вторую, выходить невероятная цепь, под которой мелькает то поп с попадьей, учитель с учительницей, чиновник с чиновницей, дьячек с дьячихой, студент с попадьянкой, затем все сплетается, перекрещивается, разбегается по разным комнатам, опять переплетается, меняется нами, падает на колени, и все эти так весело, так честно, благопристойно весело, то, что у французов встречается не особенно часто. И странно мне было стоять у дверей, с одним старым, седым как лунь клирошанином (каноником).
– Да разве у вас, ваше высокопреподобие, спросил я – применяясь к местному способу выражения – разрешается духовенству танцевать?
– Нет, отвечал он – по Уставу не можно. То добре знаемо. А шо ж? суть молодий люди!
Хороший народ эти попадьи. Наши дамы в гостиную уходят в свой собственный кружок, отделяясь от мужчин, точь-в-точь как галичанки. Но наши дамы, на сколько я их знаю, гораздо меньше сочувствуют народному делу. То, что у наших дам французский язык, то самое у попадей и у попадьянок был язык польский. За этот язык их принимали в высшее польское общество, за этот язык их всюду принимали или, пожалуй, терпели; с этим языком и с готовностью идти в католицизм они могли выходить замуж даже за панов. Настал 1848 г... Воскресла Галицкая Русь, и попадьи с попадьянками заговорили дома по-русски, а это, при местных нравах, был подвиг немалый.
– Глядить, говорила мне одна молоденькая попадья, вышедшая ко мне с полуторогодовым ребенком на руках – глядить, що мий Ясю вам буде отповедати (отвечать). Запытайте его (спросите его), кто он такий е?
– Добре, сказал я – запытаю. Ясю, мий коханый, кто ты такий есть?
– Юсин (т. е. русин) отвечал он мне.
– Не, Ясю, отвечала мать – ты есь лях.
– Не, мама, я есь юсин! чуть-чуть не заплакал Яся.
А это была женщина молодая, красивая, и если бы ее Яся не был русином, она была бы допущена во множество соседних панских домов; из патриотизма она отреклась от общества.
Приехал я к другому священнику. Это был человек лет сорока, страстный охотник до всяких птиц, с которыми он прежде всего счел долгом меня познакомить, что, впрочем не мешало ему быть очень умным человеком вообще и весьма деятельным русским в особенности. Как все галицкие священники, он очень переконфузился моим появлением в его доме, во-первых потому, что я был православный, стало быть, человек, которого принять к себе преступление; а во вторых, россиянин. Отрекомендовав меня своим птицам, он юркнул в другую комнату и вышел ко мне с извинением, что его жена больна и лежит в постели; но так как она от роду не видала россиянина, а тем более россиянина из Турции, то просит меня извинить ее, что примет меня в постели и он провел меня в ней. Мы вошли к ней. Она извинилась по-малороссийски – по-книжному она не знала, – что принимает меня лежа.
– Но, сказала она – я не хочу упустить случая познакомиться с путешественником. Послушайте, вы в России говорите на нашем языке?
– Я придвинул стул к кровати. Муж и семнадцатилетний сын ее, семинарист, были подле. Я не помню хорошенько, что мы именно говорили с ней, но помню, что одним из первых слов было сожаление, что Галичина до сих пор не принадлежит Россия, что ни она, ни ее муж, ни ее сын не умеют говорить общерусским языком, и что русская народность так загнана. Что-то очень умное и теплое слышалось мне из уст этой больной женщины. Подали кофе. Придвинули стол, чтоб поставить на нем чашки.
– Знаете, господин, я слышала, что вы будете писать об нашей Галичине, и если вы меня хорошо понимаете – а я худо говорю по-малороссийски – будьте вы добры, помяните в вашей книги о нас, галицких женщинах. У нас нет средств к образованию; мы далеко не то, чем могли бы быть, мы далеко не такие товарищи нашим мужьям, какими бы нам быть следовало. Учиться нет средств, мы бедны. Слава Богу, что у меня нет дочерей. Я сама не получила серьезного образования, что я бренчу на фортепиано, что я знаю по-польски и по-немецки, еще ровно ничего не значит. Нам, галицким женщинам, даже книг нельзя достать, чтоб развиться. Только мужья наши, наши попы отстаивают русскую народность, мы им помогать не можем. Пожалуйста, помяните в вашей книги об нас, бедных. Пусть бы наших дочерей воспитывали в Холми. Мы здесь гибнем, мы здесь задыхаемся и бороться не можем с польками, которые, получив светское образование, оттесняют нас от общества; мы перед ними конфузимся. Господин, не забудьте нас, попадей, в вашей книге.
В одном селе поляк нарочно поставил каменный костел саженях в трех от старой русской покривившейся церкви, да каменный дом ксендзу, саженях в трех от деревянного домика русского священника. Был какой-то католический праздник. К ксендзу съехалось окрестное панство, потому что ксендз хоть и много получает, но должен, по обычаю, давать вечера и в один приходский праздник принять у себя местную аристократию. Был ужин. Поляки, как все поляки на свете, заговорили о политике. Разговор оборвался знаменитой песнею, затянутой одним из гостей:
Jeszcze Polska nie zginiela, Pokie my zyjemy, Co nam obca moc wyderla Moca odberzemy | Еще Польша не сгинула, Покуда мы живы, Что у нас силой отняли, Силой воротим. |
Попадья, женщина очень простая и не хитрая, в эту минуту спокойно хлопотала около детей и на кухне, но звуки польского марша наконец надоели ей до того, что от них никуда не могла деться. Дело было летом. Прямо против окон ксендза приходилась ее гостиная, в которой стояло фортепиано. Она присела, ударила по клавишам и запела известную пародию этой самой песни, сложившуюся в Галичине, разумеется, на тот же мотив.
Jeszcze Polska nie zginiela, Ale zginac musi! Czego niemec nie wydusil, Moskal to dodusi! | Еще Польша не сгинула. Но сгинуть должна, Чего немец не выдушил, То москаль додушит. |
| ОГЛАВЛЕНИЕ |