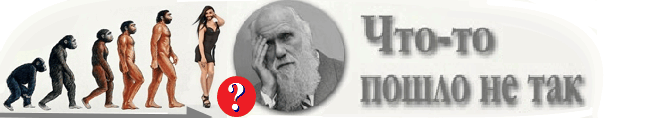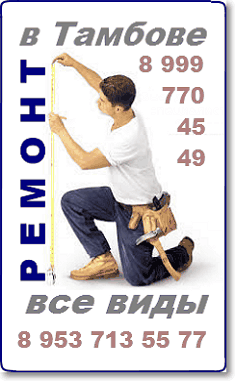Стр.6 Установление крепостного права в Малороссии Происхождение украинского сепаратизма
Страницы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Настойчивое подчеркивание одиозности Меньшикова, за которым историки не находят ни приписываемой ему украинофобии, ни перечисленных жестокостей, заставляет предполагать скрытую причину ненависти. Вряд ли она вызвана одним взятием Батурина. Никаких особенных жестокостей, кроме неизбежных при всяком штурме, там не было. Сожжен и разрушен только замок в котором засели сердюки. Но штурм был действительно сокрушительный, потому что засевшие ждали себе шведов на помощь и для Меньшикова промедление было смерти подобно. Начальствовавший над сердюками полковник Чечел, успевший бежать, но пойманный казаками и приведенный к Меньшикову, вовсе не был им казнен, но вместе с есаулом Кенигсеком и некоторыми другими взятыми в плен мазепинцами — отправлен в Глухов, где вскоре собралась казачья рада, низложившая Мазепу, избравшая на его место Скоропадского и казнившая публично взятых в Батурине изменников. Не знаем мы за Меньшиковым и всех прочих приписываемых ему зверств. Зато сохранилось известие, дающее основание думать, что агитация против него вызвана личной ненавистью Мазепы и его ближайшего окружения. Началась она года за три до взятия Батурина и связана с самым зародышем мазепиной измены. Измена эта фабриковалась, как известно, в Польше, при дворе Станислава Лещинского. Поляки давно обхаживали Мазепу посредством его кумы — княгини Дольской, но без заметного успеха; хитрый гетман не поддавался ни на какие соблазны. Только одно письмо княгини из Львова укололо его в самое сердце. Дольская писала, что где то ей, однажды, пришлось крестить ребенка вместе с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым, и за обедом, когда княгиня упомянула про Мазепу, генерал Ренне, присутствовавший там, будто бы сказал: «Умилосердись Господь над этим добрым и разумным господином; он бедный и не знает, что князь Александр Данилович яму под ним роет и хочет отставя его, сам в Украине быть гетманом». Шереметев, якобы, подтвердил слова Ренне, а на вопрос Дольской: «Для чего же никто из добрых приятелей не предостережет гетмана?» — ответил: «Нельзя, мы и сами много терпим, но молчать принуждены» 95. Именно после этого письма, воцаряется при гетманском дворе атмосфера недовольства и ропота против Москвы, усугубляемая ростом расходов на войну и на постройку Киево-Печерской крепости, которую Петр потребовал возвести. Имя Меньшикова занимало особое место и в той агитации мазепинцев, что развернулась широко, главным образом заграницей, после бегства и смерти Мазепы. Ему приписывалось угнетете украинцев, даже при помощи «всемогущей астролябии, которой дотоле во всей Руси не бывало и перед которою все было безмолвно, почитая направление и действие ея магнита божественным или мистическим произведением».
Зверства царского любимца не ограничились по уверению «Истории Русов», батуринскими избиениями, но распространились на тех чиновников и знатных казаков, что не явились «в общее собрание» для выборов нового гетмана. Они, по подозрению в сочувствии Мазепе, «отыскиваемы были из домов их и преданы различным казням в местечке Лебедине, что около города Ахтырки». Казни были, разумеется, самые нечеловеческие, а казням предшествовали пытки «батажьем, кнутом и шиною, т. е. разженым железом водимым с тихостию или медленностью по телам человеческим, которые от того кипели, шкварились и воздымались».
Жертвами таких истязаний сделалось, якобы, до 900 человек. Сейчас можно только удивляться фантазии автора, но на его современников картина меньшиковских зверств производила, надо думать, сильное впечатление. Им неизвестно было, что число единомышленников Мазепы ограничивалось ничтожной горстью приближенных, что не только не было необходимости казнить людей по подозрению в сочувствии гетману, но и те из заговорщиков вроде Данилы Апостола и Галагана, которые, побыв с Мазепой в шведском стане, вновь перебежали к Петру, — не были ни казнены, ни лишены своих урядов. Данило Апостол сделался впоследствии гетманом. Дано было согласие сохранить жизнь и булаву самому Мазепе, после того, как он, пробыв некоторое время в шведском стану, дважды присылал к Петру с предложением перейти снова на его сторону, да привести заодно с собой короля Карла и его генералов. От Мазепы перебежали в 1709 г. — генеральный есаул Дмитр Максимович, лубенский полковник Зеленский, Кожуховский, Андриан, Покотило, Гамалия, Невинчаный, Лизогуб, Григорович, Сулима. Несмотря на то, что все они вернулись после срока назначенного Петром для амнистии, и явным образом отвернулись от гетмана в силу того, что безнадежность его дела стала очевидной — Петр их не казнил, ограничившись ссылкой в Сибирь. Можно ли поверить, чтобы милуя таких «китов», он занимался избиением плотвы?
Известно, что «плотва» не только не пострадала, но благоденствовала. Лет через 5-6 после мазепиной измены, сами малороссы доносили царским властям, что «многие, которые оказались в явной измене, живут свободно, а иным уряды и маетности даны, генеральная старшина и полковники к таким особливый респект имеют: писарь генеральный Григорий Шаргородский был в явной измене, но когда пришел из Бендер от Орлика, то поставлен в местечке Городище урядником». Нежинский полковник Жураховский открыто покровительствовал мазепинцам, «выбрал в полковые судьи Романа Лазаренка, в полковые есаулы — Тарасенка, в сотники — Пыроцкого — все людей подозрительной верности». «Много сел роздано людям замешанным в измену мазепину; много сел роздано изменничьим сродникам, попам и челядникам, которые служат в дворах» 96.
Генеральная и полковая старшина спешила, как бы, награждать людей за их измену.
Злостный пасквиль на Петра и Меньшикова, выведенных палачами украинского народа, — только одна из глав великой эпопеи московских жестокостей, развернутой на страницах «Истории Русов». Чего только не написано про кн. Ромодановского, разграбившего, якобы, и сжегшего Конотоп за то, что московские войска в 1659 г. потерпели поражение недалеко от этого города! Чего только не написано про лихоимство, жадность, бесчеловечность московских воевод! Самое их появление на Украине изображено на манер Батыева нашествия: «Они тянулись сюда разными дорогами и путями и в три месяца наполнили Малороссию и заняли все города и местечки до последнего. Штат каждого из них довольно был многочисленный; они имели при себе разных степеней подьячих и с приписью подьячих, меровщиков, весовщиков, приставов и пятидесятских с командами. Должность им предписана в Думном Приказе и подписана самим думным дьяком Алмазовым; а состояла она в том, чтобы пересмотреть и переписать все имение жителей до последнего животного и всякой мелочи и обложить все податьми. Для сего открыты им были кладовыя, амбары, сундуки и вся сокровенность, не исключая погребов, пасек, хлебных ям и самых хлевов и голубятень. По городам и местечкам проезжия на базар дороги и улицы заперты были и обняты караулами и приставами. Со всего привозимаго на базар и вывозимаго с него взимаема была дань по расписанию воевод, а от них всякая утайка и флитировка истязаема была с примерною жестокостию, а обыкновенныя в таких случаях прицепки и придирки надсмотрщиков оканчивались сдирствами и побоями. Новость сия сколько, может быть, ни обыкновенна была в других сторонах, но в здешией она показалась жестокою, пагубною и самою несносною. Народ от нея восстонал, изумился и считал себя погибшим». Воеводам приписывается грубое обращение с самими гетманами. Юрия Хмельницкого Шереметев вытолкал, якобы, из своей ставки «с крайним безчестием от пьяных чиновников».
Пересказать все приписанные москалям притеснения — невозможно. Тут и тягости постоя царских войск после Прутского похода, и насильственные захваты земель русскими вельможами, бесчеловечное их обращение с крепостными, вроде того, что позволял себе какой то брат Бирона в Стародубском уезде, заставлявший женщин кормить щенят своей грудью. Автор проявляет необыкновенную находчивость, чтобы изобразить «несносное презрение в земле своей от народа ничем их (малороссов) не лучшего, но нахального и готового на все обиды, грабления и язвительные укоризны».
Изощряясь в подыскании красок для очернения русских, автор с чрезвычайной симпатией отзывается о шведах, пришедших с Карлом XII на Украину. Хорошо известно, что вели они себя там далеко не по джентельменски. Карл был воинствующим протестантом и еще в Саксонии и в Польше успел насильственно обратить около 80 костелов в лютеранские кирхи. К православной вере испытывал еще меньшее уважение. Церкви православные занимал для постоя и устраивал там конюшни. Известны многочисленные случаи жестокостей по отношению к местному населению — сожжение деревень и истребление жителей. Отправляясь в Малороссию, король рассчитывал найти там богатые склады хлеба и всяческих припасов заготовленных Мазепой, но придя не нашел ничего. Мазепа оказался ничтожным союзником. Тогда начался грабеж украинского населения. «История Русов» не упоминает о нем ни одним словом, приход Карла описывает так: «Вступление шведов в Малороссию нимало не похоже было на нашествие неприятельское и ничего оно в себе враждебного не имело, а проходили они селения обывательские и пашни их, как друзья и скромные путешественники, не касаясь ничьей собственности и не делал вовсе тех озорничеств, своевольств и всех родов безчинств, каковы своими войсками обыкновенно в деревнях делаются под титулом: «Я слуга царский! Я служу Богу и государю за весь мир христианский! Куры, гуси, молодицы и девки нам принадлежат по праву войны и по приказу его благородия!». Шведы, напротив, ничего у обывателей не вымогали и насильно не брали, но где их находили, покупали у них добровольным торгом и за наличные деньги. Каждый швед выучен был от начальства говорить по-русски сии слова к народу: «Не бойтесь! Мы ваши, а вы наши!».
Мало было, однако, сочинить подобную идиллию, надо было еще объяснить широко известный факт ожесточенной борьбы малороссийского населения со «скромными путешественниками». И тут автор «Истории Русов» не остановился перед сочинением гнусного пасквиля на свой народ. Этот народ он уподобляет «диким американцам или своенравным азиатцам». Он находит, что убивая шведов целыми партиями и по одиночке, украинцы делали это, единственно, по своей глупости; шведы де вызывали их ярость тем, что не умели говорить по-русски и не крестились. Приводя в русский лагерь пленного шведа, малоросс получал за это «сначала деньгами по нескольку рублей, а напоследок по чарке горелки с приветствием: «Спасибо хохленок!».
Автор злорадно уверяет, что за свое усердие украинцы не были даже награждены. Награды и производства сыпались на великоруссов, а они остались «притчею в людях». «И хотя они в истреблении армии шведской более всех показали ревности и усердия, хотя они около года губили, шведов... остались без вознаграждения и уважения». Автор с большим удовольствием описывает, как запорожцы, ушедшие с Мазепой в Турцию, мстили потом малороссийскому народу за его верность России, совершая набега вкупе с татарами и бессарабцами.
***
Мазепинская легенда преподнесена чрезвычайно искусно. Хитрого, вкрадчивого карьериста, каким был Мазепа, нет и в помине. Перед нами — «отец отечества», ставящий благоденствие Украины выше собственной жизни. Боясь цензуры, автор не решается превозносить его добродетели от собственного имени, он прибегает к излюбленному приему — введения в текст фальшивых документов, сочиненных либо им самим, либо какими ни будь «патриотами» из войсковой канцелярии. Одним из таких документов рисующих Мазепу великим государственным мужем, служит его воззвание, якобы, выпущенное в связи с приходом Карла ХII в Малороссию. Поставив гетмана в позу человека снедаемого заботами за свой край, он приписывает ему рассуждение о возможном исходе борьбы между Петром и Карлом. Если победит царь, малороссам по-прежнему суждено испытывать известное им уже бремя московского деспотизма — истребление многочисленных семейств, предание казни невинных людей, клевету и поношения. Если же Петр будет сокрушен доблестным шведским королем, то Малороссия неминуемо будет присоединена к Польше. Судьба страны определится, в значительной степени, поведением самих украинцев в этот важный для них час. Что они изберут, к которой стороне присоединятся? Современный читатель, хорошо знающий, что весь «патриотический» план Мазепы заключался в присоединении Украины к Польше на условиях Гадячского договора, не без любопытства прочтет о мудром намерении гетмана не приставать ни к одной из сторон. Ссылаясь на свой продолжительный политический опыт, он считает за благо не воевать ни со шведами, ни с поляками, ни с русскими, но собрав собственное войско, быть готовыми отстаивать свою землю от всякого, кто на нее посягнет. Согласно «Истории Русов», такое войско у Мазепы существовало в момент вторжения Карла XII. Он, будто бы, стоял с ним на Десне, а свою главную квартиру учредил где то между Стародубом и Новгород-Северским. Отсюда он и обратился будто бы к малороссам с воззванием.
Только полное незнакомство широкой читающей публики с событиями того времени вынуждает нас вкратце восстановить их истинную картину, необходимую для понимания степени ее искажения в «Истории Русов».
Поведение Мазепы накануне измены хорошо известно 97. Окончательное решение предать Петра созрело у него до вторжения Карла в Россию. Оно ускорено было письмом княгини Дольской и приложенным к нему письмом самого короля Станислава Лещинского, полученными 16 сентября 1707 г. Гетман уже тогда открыл свой замысел Орлику. Когда же Орлик обратил его внимание на возможность победы Петра, Мазепа воскликнул: «Или я дурак прежде времени отступать, пока не увижу крайней нужды, когда царь не будет в состоянии не только Украины, но и государства своего от потенции шведской оборонить!» Верность царю он намерен был хранить до исхода поединка между Петром и Карлом. Выжидать результатов войны в бездействии — такова была тактика гетмана. Он меньше всего рассчитывал, что Украина станет театром военных действий и был ошеломлен известием о движении короля не на Москву, по Смоленской дороге, как подсказывала военная логика, а на юг — в Малороссию. «Дьявол его сюда несет! Все мои интересы превратит и войска великороссийские за собою внутрь Украины впровадит». Мазепа, видимо, не знал, что марш короля, поставивший его в столь трудное положение, подсказан Карлу поляками, обнадежившими шведов казачьей помощью, т. е., в конечном счете, вызван был изменой самого Мазепы. Совершить роковой шаг надлежало не в конце, а в самом начале кампании и в полной неизвестности ее исхода. А не совершить было невозможно: поляки успели многое разболтать, да могли и выдать тайну сношений с ними гетмана из чувства мести. Мазепе, поэтому, остался единственный путь — обманывать Петра до тех пор, пока не подойдут шведы, дабы открыто перейти к ним.
Когда царские генералы, к осени 1708 г., сосредоточили свои войска у Стародуба, они послали приглашение и гетману явиться туда же с казаками. Мазепа притворился больным, жалуясь на «педокгричную и хирокгричную» болезнь, не позволявшую ему даже на коне сидеть. Притворство так хорошо удалось, что сам Меньшиков стал уговаривать Петра не настаивать на приезде старика, потому что «от педокгричной и хирокгричной приключилась ему апелепция». Меньшиков хотел только выяснить какието частные вопросы в беседе с гетманом, для каковой цели: отправился к нему в Батурин.
У Мазепы, тем временем, шли совещания с его приближенными о посылке гонца к Карлу XII. Гетман пребывал в состоянии крайней нерешительности, чем вызывал немалое раздражение заговорщиков. После дебатов, даже ссор, послан был с письмом к королю Быстрицкий — правитель Шептаковской волости. От встречи с Меньшиковым решено было всячески уклоняться. Послали к нему племянника Мазепы Войнаровского с уведомлением об отъезде гетмана в Борзну, где его ждет киевский архиерей для соборования, «понеже конечно при кончине своея жизни обретается». Меньшиков опечалился: «жаль такого хорошего человека». Но вместо того, чтобы вернуться назад, решил как, можно скорее ехать в Борзну, чтобы застать гетмана в живых. Это повергло в ужас Войнаровского. Ночью он бежал, чтобы предупредить Мазепу. Тем временем в Борзну прискакал Быстрицкий с известием о приближении Карла. Король обещал быть у Мокшанской пристани 22 октября, но в этот день не явился, а 23-го прибежал Войнаровский, объявивший, что завтра к обеду приедет в Борзну Меньшиков для свидания с умирающим гетманом. Мазепа «порвался, как вихрь» и немедленно помчался в Батурин, а ночью 24 октября был уже у шведов. Никакой штабквартиры «между Стародубом и Новгород-Северским» и никакой многочисленной армии на Десне не существовало. Боясь казаков и не доверяя им, Мазепа их, попросту, не собрал» предпочитая опираться на польских сердюков 98. Казачье войско пришлось собирать новому гетману — Скоропадскому. «В здешней старшине, — доносил Петру Меньшиков, — кроме самых вышних, також и в подлом (простом) народе с нынешнего гетманского злого учинку никакого худа ни в ком не видать».
«Вооруженный нейтралитет» был позой придуманной для Мазепы автором «Истории Русов». Еще большей фантастикой может считаться приписанное Мазепе утверждение, будто шведский и польский короли, по его настоянию, обещали не разорять Украины, а покровительствовать ей во время своего нашествия. Удалось, якобы, гетману добиться согласия на нейтралитет Украины в предстоящей войне и от единоверной православной России. При заключении мира Малороссия могла выступить, как самостоятельное государство, каким она была до польского владычества — со своими князьями, с древними правами и привилегиями. По словам «воззвания», великие европейские державы — Франция и Германия согласны гарантировать такой порядок вещей.
Самостийнические историки видят в этом воззвании свой идеал национальной независимости. «История Русов» была, по-видимому, главной виновницей того, что с этим идеалом связано имя Мазепы — самого непопулярного и самого не национального из гетманов. Однако, возложив на него столь важную историческую миссию автор «Истории Русов» вынужден был и всю личность Мазепы представить в исключительно выгодном свете. Прежде всего, он рисует его человеком религиозным, богобоязненным, создателем многих церквей. Мазепа и в самом деле выстроил их не мало, но по словам Костомарова, дальше этих внешних знаков благочестия его религиозная жизнь не пошла. Во всяком случае, не из нее вытекало его поведение после измены, когда он, перебежав к Карлу, продолжал, якобы, соблюдать «нейтралитет» боясь пролития крови единоверцев. В прошлом, он этой крови не жалел, особенно крови своих разоблачителей, таких как Кочубей и Искра, таких как Палей, которого он упек в Сибирь, да и таких, как его прежний начальник и благодетель — гетман Самойлович. Есть основание думать, что служа при Дорашенке генеральным писарем, он не чужд был работорговли. По крайней мере, кошевой Серко перехватил его однажды по дороге в Константинополь, куда он вез в подарок султану от Дорошенко 14 левобережных казаков. Подметное письмо, найденное в Киеве в 1670 году, прямо утверждает, что Мазепа людей русских православных продавал татарам и туркам. «История Русов» об всем этом, конечно, не упоминает. Только уклониться от объяснения хорошо всем известной казни Искры и Кочубея, открывших измену Мазепы, — не сочла возможным. Но тут она, нисколько не задумываясь, приписала эту казнь не Мазепе, а царю Петру. Гетман, до самой смерти, остался кротким, добродетельным господином, умирая сжег даже ларец, в котором хранились списки его единомышленников, дабы не ввергнуть их в беду. Что никаких таких списков не могло существовать, ясно было не только историкам, но и современникам. Петр писал Апраксину: «Он не токмо с совету всех, но из пяти персон сие зло учинил». «История Русов», между тем, не прочь повернуть дело так, что он этого зла и не собирался учинять, что переход его на сторону Карла был вынужденным по причине поведения все того же глупого народа и казаков, не пожелавших соблюдать «нейтралитета» и видеть в шведах своих лучших друзей и освободителей, к чему призывал поддельный манифест Мазепы.
Чтобы покончить с темой Мазепы и с ее трактовкой в «Истории Русов», приведем выдержку из Костомарова, посвятившего Мазепе, под конец своей жизни, обширную монографию. Вот каким представляется ему это божество самостийников:
«Гетман Мазепа, как историческая личность, не был представителем никакой национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова. Поляк по воспитанию и приемам жизни, он перешел в Малороссию и там сделал себе карьеру подделываясь к московским властям и отнюдь не останавливаясь ни перед какими безнравственными путями. Самое верное определение этой личности будет сказать, что это была воплощенная ложь. Он лгал перед всеми, всех обманывал — и поляков, и малороссиян, и царя, и Карла, всем готов был делать зло, как только представлялась ему возможность получить себе выгоду или вывернуться из опасности» 99.
***
Не менее ярко и столь же неверно представлен в «Истории Русов» эпизод с полковником Полуботком — героем последней вспышки казачьего путчизма. Предательство Мазепы поставило перед Петром вопрос о реформе управления на Украине, которая служила бы гарантией не повторения измен и бунтов. Получив наглядный пример шатости старшины и полной преданности простого народа, Петр решился на то, на что не могли решиться предыдущие цари — смелее опираться на народ и лишить старшину захваченных ею прав бесконтрольного хозяйничанья в крае. Первым шагом к такому преобразованию было учреждение Малороссийской Коллегии — особого ведомства по управлению Малороссией, созданного в 1722 г. Состояла она из шести штабофицеров под председательством бригадира Вельяминова. Официально, это был как бы совет при гетман Скоропадском, но он имел право надзора за судьями и приема жалоб от населения на казачьи власти, даже на верховный войсковой суд и войсковую канцелярию. Коллегия следила за всей входящей и исходящей перепиской канцелярии и осуществляла наблюдение за финансами.
В именном указе по поводу ее учреждения сказано, что «оная учинена не для чего иного токмо для того дабы малороссийский народ ни от кого, как неправедными судами, так и от старейшины налогами утесняем не был».
После измены и бегства Мазепы притеснение мелкого казачества и крестьян не только не ослабло, но приняло еще большие размеры. «Полковники обращали себе в подданство многих старинных казаков. Нежинский полковник в одной Верклеевской сотне поневолил более 50 человек, полтавский полковник Черняк закабалил целую Нехворощенскую сотню... переяславского полка березинской сотни, баба Алексеиха Забеловна Дмитрящиха больше 70 человек казаков поневолила». Жалобы и челобитья простого народа рисуют знакомую, по предыдущей главе, картину беззастенчивого закабаления: «полковники казаков соседей своих по маетностям принуждают за дешевую цену продавать свои грунты, мельницы, леса и покосы». По жалобе казаков на нежинского полковника Журковского, гетман Скоропадский дал им универсалы, ограждавшие от дальнейших обид, но когда они с этими универсалами, явились к полковнику, тот обобрал их, бил, посадил в, тюрьму и держал до тех пор, пока они не дали письменного обязательства быть у него навеки в подданстве 100.
После рассылки по всей Украине печатного указа, объяснявшего задачи новой коллегии, старшина почувствовала, что ее управлению приходит конец, а когда увидела, что Петр не на шутку начинает выводит на чистую воду все ее дела о неправильно захваченных землях и несправедливо закрепощенных людях, она пришла в ужас. Но ее ждал еще один удар. Петр замыслил полное упразднение гетманства. Когда умер Скоропадский, новые гетманские выборы не были назначены. Царь велел исполнять обязанности гетмана черниговскому полковнику Павлу Полуботку, советуясь во всех делах с генеральной старшиной и с Малороссийской Коллегией. Не подлежит сомнению, что не умри Петр так рано, Скоропадский вошел бы в историю, как последний украинский гетман. Но наступившая после смерти императора реакция и гибель многих его начинаний вызвали, в числе прочих мероприятий, реставрацию малороссийского гетманства. В 1727 году, по предложению того же Меньшикова, состоялись гетманские выборы и булава, лежавшая праздно пять лет, вручена была Данилу Апостолу — бывшему мазепинцу, ушедшему к Карлу ХII, а потом снова перебежавшему к царю.
Эпизод с Полуботком разыгрался, согласно «Истории Русов», на почве введения малороссийской коллегией налогов. Сообщается об этих налогах таким тоном, будто они введены впервые. Автор, видимо, забыл, как он несколькими десятками страниц ранее поносил и проклинал Москву за взимание непосильных податей и поборов в Малороссии. Теперь оказалось, что до учреждения Малороссийской Коллегии, т. е. до 1722 г., никаких таких поборов и не было. Москва, действительно, ничего в свою пользу не получала, но Малороссийский народ платил очень тяжелые подати в гетманскую казну. В 1722 году, все было оставлено по-прежнему: финансы Украины, как и прежде, оставались отделенными от общероссийских финансов, но произошло нечто небывалое дотоле — Малороссийская Коллегия обложила налогом привилегированный слой казачества — старшину. Это и дало повод к жалобам на податное бремя. Вина Полуботка заключалась, якобы, в том, что он вместе со старшиной выступил перед Сенатом с просьбой об избавлении казачьих чинов от обложения. Сенат, по словам «Истории Русов», внял и освободил, но Петр, вернувшись из персидского похода, восстановил налоги, а самого Полуботка с его приспешниками вызвал в Петербург.
Когда они предстали перед царем и снова просили об избавлении от тягот и о возвращении старых привилегий, Петр, по внушению Меньшикова, назвал их, будто бы, изменниками и «повелел истязать и судить Тайной Канцелярии». Тайная Канцелярия, после пыток раскаленным железом, осудила всех на пожизненное тюремное заключение с конфискацией всего имущества. Услышав такой приговор, Полуботок, по словам «Истории Русов», произнес перед царем смелую речь, обличая беззаконность его поступка и несправедливость кары постигшей старшину. Он не только напомнил царю о невыносимых податях покорно выплачиваемых населением, но о строительстве крепостей, о рытье каналов и осушении болот, где гибнут тысячи малороссов от голода и усталости, напомнил о нарушении царскими чиновниками стародавних прав и обычаев малороссийских, о ненависти царских фаворитов, безжалостных врагов Украины, правящих ею на манер азиатских тиранов. «Я знаю, что нас ожидают цепи и мрак тюрьмы, где нас уморят голодом и лишениями, по московскому обычаю, но пока, я жив, я скажу тебе всю правду, государь».
После столь эффектной речи дается мелодраматическое описание смерти Полуботка в Петропавловской крепости, куда к нему, якобы, пришел Петр Великий, чтобы попросить прощения. Полуботок не простил его и умирая произнес еще одну блестящую речь: «За неповинные страдания мои и моих земляков будем судиться у нелицеприятнаго судьи, Бога нашего: скоро станем перед ним и он разсудит Петра и Павла».
Эти Речи Полуботка, сохраненные нам «Историей Русов», пользовались необычайным успехом среди фрондирующей казачьей старшины, расходясь по рукам во множестве списков. Кроме «Истории Русов» они попали в "Les annals de la Petit Russie" Бенуа Шерера, вышедшие в Париже в 1788 г. Кроме того, портрет Полуботка с выгравированной под ним цитатой из его «Речи» висел чуть не в каждом полковничьем и сотницком доме. По мнению позднейших исследователей, изображен был на нем не Павел, а его отец Леонтий Полуботок, но это нисколько не мешало почитанию черниговского полковника, причисленного к лику национальных героев.
Надо ли говорить о том, что история Полуботка, как все аналогичные эпизоды, изложена «История Русов» в самом превратном виде, а Речи его сочинены?
Подложность их давно не вызывала сомнений, даже у самостийников. Один из них, Александр Оглоблин, признал это недавно совершенно открыто 101.
***
При спокойном рассмотрении в свете документального материала, какой мы находим у таких историков, как С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, А. М. Лазаревский 102, дело Полуботка и самая личность его выступают в совсем ином виде. Не бескорыстный патриотизм, а печать все того же казачьего хищничества лежит на них.
Конфликт «местоблюстителя» гетманских клейнодов с Малороссийской Коллегией был вызван не одним лишь обложением податями правящего сословия, но рассылкой по полкам универсалов, предоставлявших право простым казакам подавать в коллегию жалобы на притеснения со стороны старшины.
Мы уже видели, как в течение полустолетия старшина ожесточенно боролась против такого права. Она старалась всеми силами изолировать простое казачество от царской администрации, она хотела быть его высшим и последним начальством. А теперь позволено было не только казакам жаловаться на своих полковников и сотников, но и крестьянам на помещиков. Крестьяне воспрянули духом, стали вести себя более независимо, а кое где и побили помещиков. Жертвой таких расправ сделался один из казачьих магнатов, известный Забела. Тогда Полуботок с своими товарищами решился на открытое нарушение царского приказа. А приказ запрещал кому бы то ни было издавать универсалы без согласия Малороссийской Коллегии. Превысив власть, Полуботок, вкупе со старшиной, выпустил универсал направленный против Малороссийской Коллегии и требовавший от крестьян повиновения своим помещикам. Петр усмотрел в этом рецидив старой казачьей крамолы и вызвал Полуботка с его приближенными в Петербург для объяснения. Прослышав об этом, стародубские и любецкие поселенцы послали туда своих челобитчиков с жалобами на старшину и с просьбой заменить казачий суд имперским. Полуботок с товарищами объявили это посольство фальшивым, подстроенным Малороссийской Коллегией. Петру, видимо, давно надоело положение, при котором обо всяком нестроении в Малой России невозможно было иметь ясного представления. Обнаруживался ли факт растущей безлошадности среди казаков, гетман объяснял это поставкой подвод проезжим великороссам, а сами казаки — работами, которыми утесняют их полковники; оказывалось ли, что в некоторых городах ратуши «стали пусты», гетман винил в этом генералов и офицеров, расквартированных в данных городах и требовавших себе на кухни всяких запасов, а жители доносили, что хотя ратуши, действительно, снабжают войска продовольствием, но для этой цели с народа идут поборы на ратуши, а беда лишь в том, что поборы значительно превышают то, что требуется для прокорма гарнизонов, потому что «тем корыстуются полковники, сотники, атаманы и войты».
В случае с Полуботком, царь решил добиться более объективной информации о положении на Украине, он отправил туда Румянцева — доверенное лицо, с целью опроса населения. Полуботок с товарищами, крайне заинтригованные наказом, данным царскому посланному, решились на подкуп подьячих сенатской канцелярии с целью выведать содержание секретной инструкции. Когда это удалось, они отправили в нужные места ходоков, снабженных тоже инструкцией, предупреждавшей и указывавшей что делать, как отвечать на вопросы Румянцева, какие сведения давать, а каких не давать. Посланы были распоряжения о сожжении документов. У самого Полуботка в доме, служанка Марья сожгла какие то бумаги, а палачу, состоявшему в ведении гетмана, приказано было эту Марью убить, да и еще кое кого, чьих доносов и показаний опасались. Полковникам и сотникам приказывалось спешно помириться с обиженными ими людьми и даже ублажить их чем можно. Сыну Полуботка Андрею приказывалось призвать сотника любецкого и заверить его в полном удовлетворении, которое будет дано людям его сотни, лишь бы они, да и сам сотник, не жаловались Румянцеву на Полуботка. Велено писать жалобы на россиян, на их бесчинства, на тяготы от постоя войск. От своих людей, находившихся в казачьих отрядах стоявших при границе на реке Коломаке, удалось добиться составления петиции на царское имя с жалобами на притеснения великорусского начальства, его несправедливости и незаконные поборы. Все было сделано, чтобы парализовать работу Румянцева и сбить его планы. Тем не менее, многое ему удалось узнать, а главное, убедиться в страшном недовольстве народа казачьим режимом. Еще до получения от него донесений, Петр узнал о проделках Полуботка, о подкупе подьячих, и приказал учинить следствие. Все бумаги арестованных попали в руки властей, благодаря чему вскрылась не только картина их происков, но и многие беззакония на Украине которые хотели скрыть.
Ни одному из перечисленных выше авторов, просматривавших исторический материл связанный с этим эпизодом, не попадалось сведений о пытках каленым железом, да и вообще о каких либо пытках. Не найдено намека и на знаменитые речи Полуботка. Странно было бы и предполагать, чтобы крепостник, ненавидимый собственным народом, мог морально торжествовать над царем, державшим в руках многочисленные свидетельства народного недовольства старшиной и всеобщего требования упразднить ненавистные старшинские порядки. Судя по сохранившимся известиям о том, что Полуботку были показаны все эти материалы, можно заключить об обратной картине: не он укорял царя, а царь обличал его самого. Власти располагали документальными данными о его личных злоупотреблениях — скупке казацких земель, незаконном закрепощении во время управления черниговским полком.
Сам Полуботок, не дождавшись конца следствия, умер в крепости осенью 1724 года. Единомышленники его, Савич и Черныш, просидели еще около 2 лет и освобождены при Екатерине I, по ходатайству «врага Украины» кн. Меньшикова.
Дело Полуботка означает переломный момент в судьбе казачьей старшины. Она ясно стала понимать, что эпоха ее хозяйничанья в Малороссии кончилась, что царь, раздраженный бесконечными путчами и изменами, решился прибегнуть к вернейшему средству ее обуздания — поднять на нее постоянно кипевшую ярость народа. Боязнь все потерять была, по видимому, настолько сильна, что украинская аристократия, перестает держаться за старинные казачьи права и все силы употребляет на удержание накопленных реальных выгод и ценностей. Она вступает на путь быстрого превращения в российское дворянство. История полна метаморфоз и перевоплощений; и это не первый случай, что насильническая буйная стихия становится, с течением времени своей полной противоположностью. Отбросив прежние казачьи иллюзии, степная вольница вступила на путь имперского строительства Малороссии и всей России. Из нее вышли великолепные государственные, военные и церковные деятели, множество ученых, писателей, да едва ли не вся та интеллигенция, которая, вместе с петербургской и московской, создала культуру мирового значения.
Такое превращение облегчено было смертью Петра. Петр не шибко жаловал и великорусское дворянство. Бывали минуты, когда он задумывался над его упразднением. Безусловно, между великорусским и малорусским шляхетством образовалась некая общность судьбы и общность интересов. Поэтому, восстановление гетманства в 1727 г. и упразднение Малороссийской Коллегии надо рассматривать не иначе, как в связи с приходом к власти дворянства, открывшего после кончины Петра эру своего процветания. Характерно, что бригадира Вельяминова, главу Малороссийской Коллегии, привлекли к ответственности за какие то «злоупотребления». Не в злоупотреблениях было дело, а в том, чтобы уничтожить петровскую политику, потворствовавшую крестьянину в ущерб помещику. Российское дворянство помогло малороссийскому избавиться от этой грозной опасности, а малороссийское, в свою очередь, поняв ее, совершило быстрый «спуск на тормозах», отказавшись от прежнего казачьего обличья и казачьего самоуправления. Гетманство Данилы Апостола, а потом Кирилла Разумовского, создано было как бы для того, чтобы облегчить эту эволюцию. Но и тут украинских помещиков не покидала строгая расчетливость. Они до самого воцарения Петра III туго шли «а «превращение». Причина заключалась в неравенстве прав. Как ни прибеднялось, ни хныкало малороссийское шляхетство, постоянно твердившее о какихто «оковах», оно пользовалось гораздо большими вольностями и льготами, в смысле государственной службы, чем его великорусские собратья. В этом отношении оно стояло ближе к польскому панству. Сливаться с великорусским благородным сословием на основе его строгой и неукоснительной службы государству, ему не очень хотелось. Только когда Петр III и Екатерина, своими знаменитыми грамотами, освободили российское дворянство от обязанности служить, сохранив за ним, в то же время, все права и блага помещичьего сословия — у малороссов отпали всякие причины к обособлению. С этих пор они идут быстро на полную ассимиляцию. Впоследствии, А. Чепа — один из приятелей В. Полетики и, повидимому, инспиратор «Истории Русов», снабжавший ее автора необходимыми материалами и точками зрения, — писал своему другу: пока «права дворян русских были ограничены до 1762 г., то малороссийское шляхетство почло за лучшее быть в оковах, чем согласиться на новые законы. Но когда поступили с ними по разуму и издан указ государя императора Петра III о вольностях дворян (1762 г.) и высочайшая грамота о дворянстве (1787), когда эти две эпохи поровняли русских дворян в преимуществах с малороссийским шляхетством, тогда малороссийские начали смело вступать в российскую службу, скинули татарские и польские платья, начали говорить, петь и плясать по-русски» 103.
***
«История Русов» известна была сначала под именем «Летописи Конисскаго», но уже в середине ХIХ века начали приходить к заключению о неправдоподобности участия могилевского архиепископа в ее составлении. Автора стали усматривать в том самом Григории Полетике, которому, по утверждению Бодянского, Конисский вручил летопись. Григорий Полетика родился в 1725 году, в семье одного из казацких старшин, следовательно, хорошо помнил время усиленного закрепощения крестьянства и, одновременно, неприязнь к Петру за ущемление им старшинского произвола. Человек суровый, холодный, беспощадный в обращении с подчиненными, как его характеризует один из самостийнических историков, он был ревностным сторонником насаждения крепостного права на Украине и глашатаем исключительного господствующего положения казачьего дворянства. Его перу принадлежат две записки, развивающие эту идею.
Естественно, он стал центром притяжения ему подобных; вокруг него собрался тот кружок, из которого вышла «История Русов». Сын его Василий, подобно отцу, принимал близко к сердцу интересы своего сословия и составил «Записку о начале, происхождении и достоинстве малороссийского дворянства». Высказано мнение, что он, а не отец его — истинный автор «Истории Русов» 104.
Вопрос об авторстве занимает нас меньше, чем другой; почему в конце ХVIII — в начале ХIХ веков все еще существовали люди недовольные имперским правительством и облекавшие свое недовольство в старинные казачьи формы? Казалось бы, запорожская вольница добилась всего, о чем мечтала — богатства, власти, земель, крепостных крестьян. Чем могли питаться теперь ее антирусские настроения? Для подавляющего большинства прежней старшины — ничем.
Мы знаем, что оно прекратило всякую фронду и стало оплотом самодержавия наряду с великорусским дворянством. Но осталась кучка не до конца «устроенных». Чтобы понять ее недовольство, надо пристальнее присмотреться к «Истории Русов» с ее навязчивой идеей шляхетства-казачества. Это главная тема и политический нерв произведения.
«Шляхетство, по примеру всех народов и держав, естественным образом составлялось из заслуженных и отличных в земле пород и всегда оно в Руси именовалось рыцарством, заключающим в себе бояр, происшедших из княжеских фамилий, урядников по выборам и простых воинов, называемых казаками по породе, кои производят из себя все чины выборами и их по прошествии урядов возвращая в прежнее звание, составляли одно рыцарское сословие искони тако самым их статутовым правом утверждаемое, и они имели вечистою собственностью своею одне земли с угодьями, а поспольством владели по правам и рангам и повинность посполитых была установлена правами. А владевшие ими в отношении власти их над поспольством считались и назывались отчичами или вотчинниками, от слова и власти взятых по древним патрициям, то есть отцам народным управлявшим первоначальными семействами и обществами народными, с кротостью и характером отеческими. Духовенство, выходя из рыцарства по избрании достойных, отделялось только на службу Божию, а по земству имело одно с ними право». Автор с возмущением отвергает мнение, будто казаки судились по каким-то собственным специально для них изданным законам, а не по обычному шляхетскому праву, «по статутовым артикулам для шляхетства узаконенным».
Судя по тому, как часто, кстати и некстати, подчеркивается их рыцарское достоинство, к каким изощренным приемам фальши прибегает автор, чтобы утвердить за ними шляхетские права, можно заключить о болезненной чувствительности этого пункта. Весь тон повествования похож на страстный ответ кому-то, кто оспаривает казачье дворянство. Перед нами драма той части потомков Кошек, Подков, Гамалиев, которая успела добиться всего, кроме прав благородного сословия.
Не было, кажется, случая, чтобы имперское правительство лишало малороссийского помещика земель и крестьянских душ только за то, что он не дворянин; помещики продолжали владеть, де факто, теми и другими, но сами отлично знали, что это противозаконно. Страдало их самолюбие и от таких «мелочей», как недопущение, на первых порах, в Шляхетный кадетский корпус (открытый в 1731 г.) детей малороссов, «поелику-де в Малой России нет дворян». Казачество так быстро сделало помещичью карьеру, что не успело еще изгладиться из памяти его происхождение. Граф Румянцев, в письмах к Екатерине II, рассказывает, что при выборах в Комиссию по составлению Нового Уложения редкое собрание обходилось без саморазоблачений; всегда кого ни будь собственные же соседи публично уличали в отсутствии у него дворянского звания. Тогда обиженный вставал и начинал перечислять всех крупных вельмож — своих земляков, ведущих род либо «от мещан», либо «от жидов». Царское правительство смотрело на это сквозь пальцы, оно неуклонно вело политику превращения мутных самочинных «аграриев» в российских дворян. Те же выборы в екатерининскую комиссию 1767 г., проводившиеся в Малороссии по сословному принципу, как во всей России, означали фактическое признали тамошних помещиков за дворян. Со времен царя Алексея Михайловича началась практика выдачи всевозможных грамот, закреплявших за панами в вечное потомственное владение земель и угодий. Совершенно ясное узаконение малорусского дворянства произведено распространением на Малороссию (в 1782 г.) закона о губерниях а уравнением крестьян и помещиков обеих частей государства по указу 1783 г. Наконец, через два года явилась Жалованная Грамота Российскому Дворянству, относившаяся в одинаковой мере как к великоруссам, так и малоруссам.
Но одно дело — общее законодательство, а другое — бюрократическая практика. В скрипучей машине необъятной империи колеса вертелись не всегда гладко. На Украине оказалось столько оттенков и категорий панства, что их трудно было перевести на всероссийскую скалу.
Продолжал, также, действовать род государственного преступления, учиненного Богданом Хмельницким, который, получив согласие царя на небывало высокую цифру казачьего реестра в 60.000 человек, так и не составил этого реестра. Когда заходила речь о жаловании казаками и московское правительство требовало списки, их не оказывалось. Никто не знал, сколько в Малороссии казаков и неизвестно было, кто казак, а кто мужик. Вопрос этот решался, обычно, по личному усмотрению старшины.
Дворянское звание закрепляли сначала за чинами войскового уряда, что было довольно просто, тем более, что большинству этих тузов шляхетство давно было пожаловано либо польским королями, либо царями московскими. Сравнительно легко справились с полковой аристократией, приравняв полковников к бригадирам, полковых есаулов, хорунжих и писарей — к ротмистрам, сотников — к поручикам и т. д. Но оставалось много званий, которых, табель о рангах не предвидела и не вмещала. С ними были вечные недоразумения, усугубленные деятельностью малороссийских депутатских дворянских собраний. Призванные разбирать права своей страждущей братии, они по словам А. Я. Ефименко, «завели чуть что не открытую торговлю дворянскими правами и дипломами».
Все это способствовало недовольству и популярности того «учения», согласно которому казацким потомкам вовсе не нужно доказывать свое шляхетство, поскольку казачество извеку было шляхетским сословием.
До какой степени проблема «прав» тревожила умы и какой климат создавала она на Украине, можно судить по тому, что еще в шестидесятых годах ХVIII века южное дворянство, в массе своей, не могло предъявить никаких документов в подтверждение своего «благородного» происхождения: объясняли это гибелью семейных архивов во время смут и войн. Однако, лет через пятнадцать-двадцать, ко времени возникновения комиссии о разборе дворянских прав в Малороссии, до ста тысяч дворян явилось с превосходными документами и с пышными родословными.
Оказалось, что Скоропадские, например, происходят от некоего «референдария над тогобочной Украиной», Раславцы — от польских магнатов Ходкевичей, Карновичи — от венгерских дворян, Кочубеи — от татарского мурзы, Афендики — от молдавского бурколаба, Капнисты — от мифического венецианского графа Капниссы, жившего на острове Занте. Появились самые фантастические гербы. Весь Бердичев трудился над изготовлением бумаг и грамот для потомков сечевых молодцов. Поддельность их гербов и генеалогий была настолько общеизвестна, что появились сатирические поэмы вроде: «Доказательства Хама Данилея Куксы потомственны».
Да вже ж наши дворяне гербы посилають, А що я був дворянин, то-того й не знають».
Этот дворянин, еще недавно косивший, молотивший, жавший и лишь в последнее время «трохи як розживсь» — сочинил себе тоже герб:
«Вон у мене герб який В деревянем цвити Ще ни в кого не було В Остерском повити. Лопата написана Держалом у гору, Побачивши скаже всяк, Що воно без спору. У середини грабли, Выла и сокира, Якими було роблю, Хоть якая сквира».
В таком же духе написано прошение пана депутата Плещинского, который просит его уволить от обязанностей выборной своей службы по той причине, что он «посвятил всю свою жизнь шинковому промыслу» 105.
Когда до Герольдии дошли сведения о злоупотреблениях на почве «посилания» гербов, она стала придирчивой и затруднила доступ в дворянство тем, кто еще не успел попасть туда. Особенные строгости начались с 1790 года.
В этот трудный для известной части малороссийского шляхетства период, когда оно втайне раздражено было против имперского правительства, возник рецидив казачьих настроений, вылившийся в сочинении фантастической «Истории Русов».
Все, чем казачество оправдывало свои измены и «замятни», свою ненависть к Москве, оказалось собранным здесь в назидание потомству. И мы знаем, что «потомство» возвело эту запорожскую политическую мудрость в символ веры. Стоит разговориться с любым самостийником, как сразу обнаруживается, что багаж его «национальной» идеологии состоит из басен «Истории Русов», из возмущений «проклятой» Екатериной II, которая «зачипала крюками за ребра и вишала на шибеници наших украинських казакив». Казачья идеология сделана национальной украинской идеологией. В противоположность европейским и американским сепаратизмам, развивавшимся, чаще всего, под знаком религиозных и расовых отличий либо социально-экономических противоречий, украинский не может основываться ни на одном из этих принципов. Казачество подсказало ему аргумент от истории, сочинив самостийническую схему украинского прошлого, построенного сплошь на лжи, подделках, на противоречиях с фактами и документами. И это объявлено, ныне, «шедевром украинской историографии».
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Для первой половины ХIХ века констатировано полное затухание казачьего автономизма, что вполне понятно, если принять во внимание исчезновение самого казачества. Помимо горсти фрондеров типа Полетики, державшихся трусливо и ворчавших ничуть не грознее членов московского Аглицкаго клуба, никакого политического национализма на Украине, в то время, не существовало. По словам Грушевского, уже со времен Петра Великого началось стирание граней в культурном облике малоруссов и великоруссов. Образованные украинские силы, особенно духовенство, широко были привлечены к строительству Российской Империи. «Великорусский язык входит в широкое употребление, не только в сношениях с российскими властями, но влияет и на язык внутреннего украинского делопроизводства, входит и в частную жизнь и в литературу Украины» 106.
Этот «великорусский» язык был, разумеется, тем общероссийским языком, в выработке которого малоруссы приняли одинаковое, если не большее участие вместе с великоруссами. Именуя его великорусским, Грушевский делает вид, будто он, как нечто чуждое, принесен извне государственным порядком, хотя ни фактов насильственного его внедрения не приводит, ни открытого утверждения в этом смысле не позволяет себе. «По мере того, — говорит он, — как культурная жизнь обновленной России понемногу растет, с середины ХVIII века великорусский язык и культура овладевают все сильнее и глубже украинским обществом. Украинцы пишут по великорусски, принимают участие в великорусской литературе, и много их становится даже в первые ряды нового великорусского литературного движения, занимают в нем выдающееся и почетное положение».
Процесс слияния малороссийского шляхетства с великорусским шел так быстро, что окончательное упразднение гетманства при Екатерине не вызвало никакого сожаления. Все прочие перемены встречены столь же легко, даже с сочувствием. Если небольшая кучка продолжала твердить о прежних «правах», то очень скоро «желание к чинам, а особливо к жалованию» взяло верх над «умоначертаниями старых времен». Как только разрешился в благоприятную сторону вопрос о проверке дворянского звания, южнорусское шляхетство окончательно сливается с северным и становится фактором общероссийской жизни. Забвение недавнего автономистского прошлого было так велико, что по словам того же Грушевского «созидание национальной жизни» пришлось начинать «заново на пустом месте» 107.
Все, что подходило под понятие национальной жизни на Украине в первой половине ХIХ столетия, представлено было любителями народной поэзии и собирателями фольклора, добрая половина которых состояла из «кацапов», вроде Вадима Пассека, И. И. Срезневского, А. Павловского. Даже Н. И. Костомаров до двадцатилетнего возраста не знал, великорусс он или малорусс.
Что же до природных украинцев — М. А. Максимовича, А. Л. Метелинского, И. П. Котляревского, Е. П. Гребенки, то они не только не противопоставляли украинизма руссизму, но всячески подчеркивали свою общероссийскую природу, нисколько не мешавшую им быть украинцами. «Скажу вам, что я сам не знаю, какова у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы щедро одарены Богом и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой».
Эти слова Гоголя могут считаться выражающими настроения подавляющего числа тогдашних малороссийских патриотов. Весь их патриотизм заключался в простой, естественной, лишенной какой бы то ни было политической окраски, любви к своему краю, к его природе, этнографии, к народной поэзии, к песням и танцам. Сама деятельность их заключалась в собирании этих песен и сказок, в изучении языка и быта, в сочинении собственных стихов и повестей на этом языке. «Наступило, кажется, то время, когда познают истинную цену народности, — писал Максимович в предисловии к своему сборнику малороссийских песен, — начинает уже сбываться желание: да создастся поэзия истинно русская».
Этот человек, любивший Украину, никогда не забывал, что она — русская земля. «Уроженец южной Киевской Руси, где земля и небо моих предков, я преимущественно ей принадлежал и принадлежу доныне, посвящая преимущественно ей и мою умственную деятельность. Но с тем вместе, возмужавший в Москве, я также любил, изучал и северную московскую Русь, как родную сестру нашей киевской Руси, как вторую половину одной и той же святой Владимировой Руси, чувствуя и сознавая, что как их бытие, так и уразумение их одной без другой, недостаточны, односторонни».
Слова эти, сказанные в ответ на приветствия по случаю 50-летия его литературной деятельности в 1871 г., как нельзя лучше характеризуют всю жизнь Максимовича и все его ученые труды. Его филологические и исторические работы, журналы «Киевлянин» и «Украинец», издававшиеся им в 40-60 годах, встречались всегда одинаково благожелательно, как русским, так и малороссийским обществом. Когда основался киевский университет св. Владимира, Максимович, в то время совсем еще молодой профессор ботаники в Москве, назначается его ректором.
Пост был чрезвычайно ответственный. Правительство Николая I ставило задачей киевскому университету противодействие польскому влиянию в крае. Это были те времена, когда среди поляков господствовала точка зрения, выраженная Владиславом Мицкевичем — сыном поэта, согласно которой спрашивать киевлян, хотят ли они жить с Польшей, все равно, что “demander aux habitans de Moscou et de Tver, s’ils sont Russes”. К тому же и профессура нового университета состояла, на первых порах, преимущественно из поляков.
Максимович блестяще справился со своей задачей. Установив наилучшие отношения со своими коллегами поляками, он в то же время противопоставил их культурному влиянию свое собственное — русское. Сам гр. С. С. Уваров — министр народного просвещения — был в восторге. Однажды, в 1837 г., он совершенно неожиданно приехал в Киев и сразу отправился в Университет. Там в это время происходил акт, на котором Максимович читал речь «Об участии и значении Киева в общей жизни России». Уваров так был захвачен этой речью, что едва дал оратору закончить ее, бросившись к нему с горячим рукопожатием 108. Эпизод этот — лучшее свидетельство того, какой национальной жизнью жил этот выдающийся украинец того времени.
Таков же, примерно, был Амвросий Метелинский (1814-1869) — профессор харьковского и киевского университетов, — восторженный романтик и идеалист, страстный собиратель народной поэзии. В предисловии к своему сборнику южно-русских песен, выпущенному в Киеве в 1854 г., он писал все в том же духе единства русского народа и русской культуры: «Я утешился и одушевился мыслью, что всякое наречие или отрасль языка русского, всякое слово и памятник слова есть необходимая часть великого целого, законное достояние всего русского народа, и что изучение и разъяснение их есть начало его общего самопознания, источник его словеснаго богатства, основание славы и самоуважения, несомненный признак кровнаго единства и залог святой братской любви между его единоверными и единокровными сынами и племенами».
Русское столичное общество не только не враждебно относилось к малороссийскому языку и произведениям на этом языке, но любило их и поощряло, как интересное культурное явление. Центрами новой украинской словесности в XIX веке были не столько Киев и Полтава, сколько Петербург и Москва. Первая «Грамматика малороссийского наречия», составленная великоруссом А. Павловским, вышла в СПБ, в 1818 году. В предисловии, автор объясняет предпринятый им труд желанием «положить на бумагу одну слабую тень исчезающего наречия сего близкого по соседству со мною народа, сих любезных моих соотчичей, сих от единые со мною отрасли происходящих моих собратьев».
Первый сборник старинных малороссийских песен, составленный кн. М. А. Цертелевым, издан в 1812 году в Петербурге. Следующие за ним «Малороссийския песни», собранные М. А. Максимовичем, напечатаны в Москве в 1827 г. В 1834 году, там же вышло второе их издание. В Петербурге, печатались Котляревский, Гребенка, Шевченко. Когда Н. В. Гоголь прибыл в Петербург, он и в мыслях не держал каких бы то ни было украинских сюжетов, — сидел над «Гансом Кюхельгартеном» и намеревался идти дорогой тогдашней литературной моды. Но вот, через несколько времени пишет он матери, чтобы та прислала ему пьесы отца. «Здесь всех так занимает все малороссийское, что я постараюсь попробовать поставить их на театре». Живя в Нежине, он не интересовался Малороссией, а попав в москальский Петербург стал засыпать родных письмами с просьбой прислать подробное описание малороссийского быта. В Петербург поэтов писавших по-украински пригревали, печатали, выводили в люди и создавали им популярность. Личная и литературная судьба Шевченко — лучший тому пример. «Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на Руси, — писал Н. И. Костомаров, — идея двух русских народностей не представлялась в зловещем виде, и самое стремление к развитию малороссийского языка и литературы не только никого не пугало призраком разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской любовью».
***
Стр.6 Установление крепостного права в Малороссии. Монография Николая Ульянова: Происхождение украинского сепаратизма